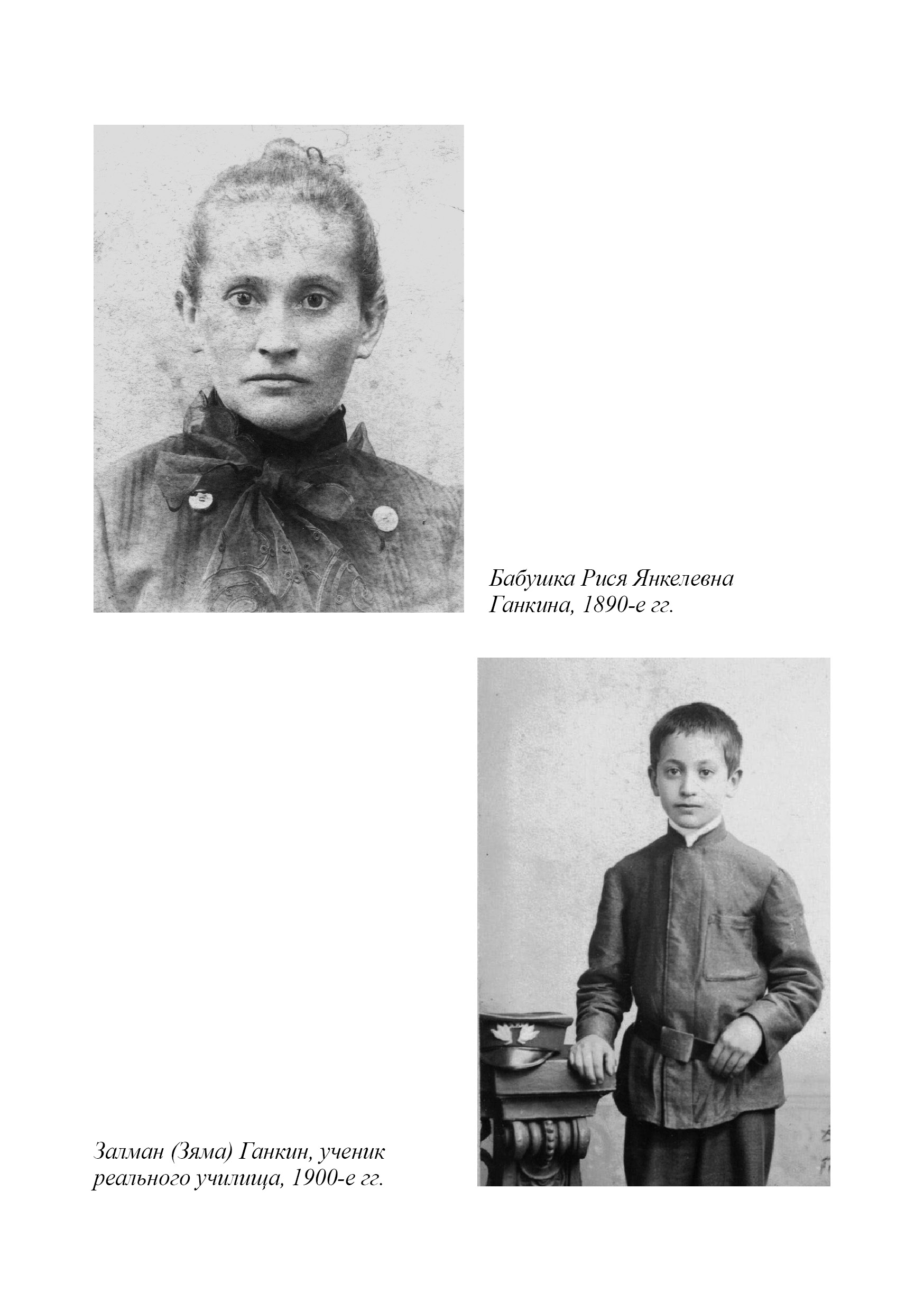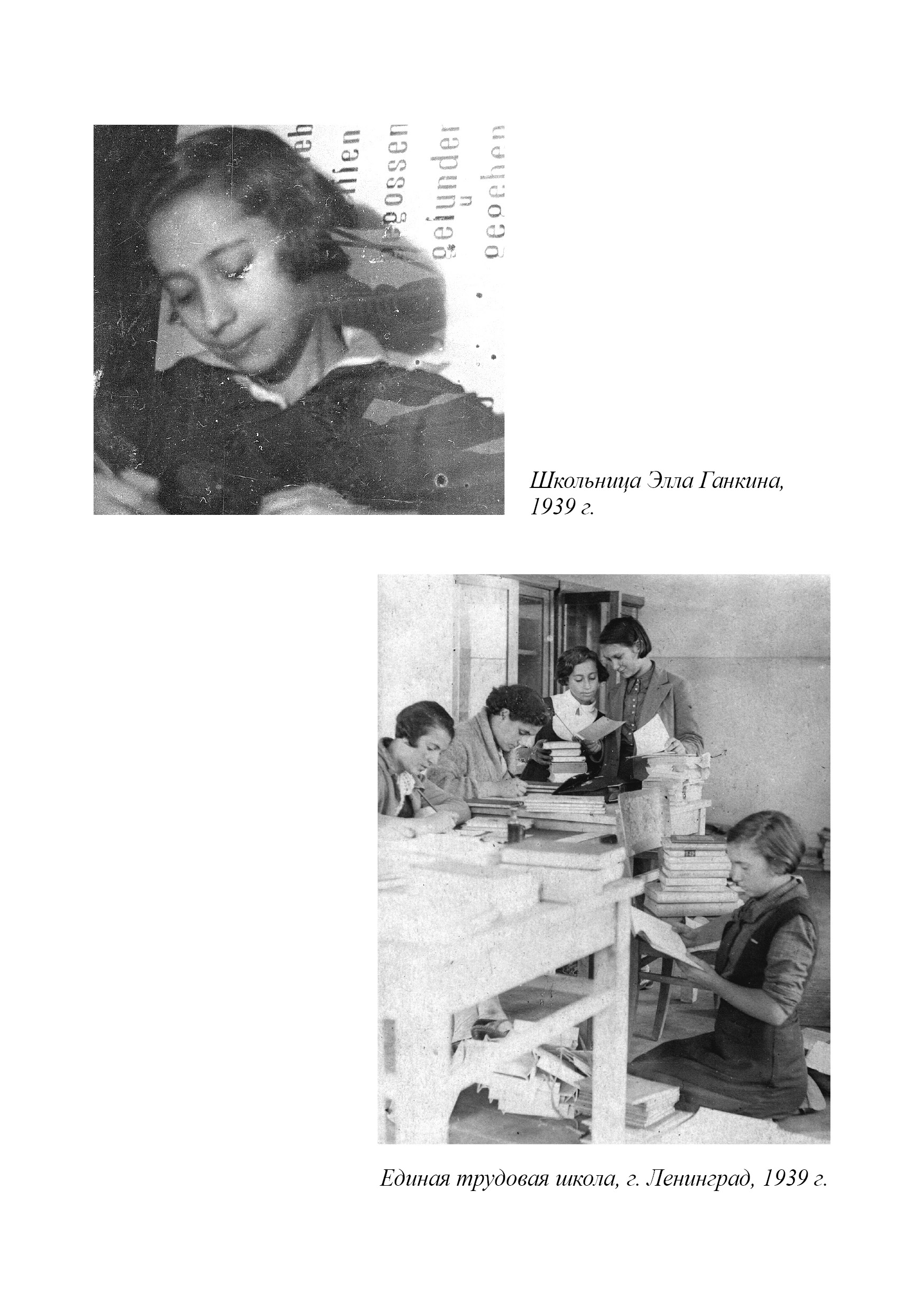На Арбате и у Пяти углов
Предисловие автора
Вот уже несколько лет я пишу свои воспоминания о родителях. Переписываю заново то, что написала раньше. Перечитываю. Многое кажется мне неполным, потому что не обо всем в судьбах дедушек и бабушек, да и моих отца и матери тоже, я имею достаточно полное представление.
Почему я так мало интересовалась их жизнью, когда они были рядом? Не спрашивала, как они росли и мужали, как принимали важные решения, добивались успеха или испытывали разочарования. Наконец, как переживали исторические события. Революции и войны. Перемены общественного строя. Новую жизнь детей.
Пока мы молоды, нас гораздо больше волнуют собственные переживания, чем родительские радости или беды. Но проходит время, и вдруг осознаешь, что спрашивать уже слишком поздно, родные люди ушли навсегда. Вот почему приходится рыться в исторических документах, изобилующих чужими исследованиями, рассказами очевидцев – всем, чем полон сейчас Интернет. Без обстоятельств общей истории трудно бывает понять мысли и поступки даже самых близких.
То, что нахожу, я сверяю с тем, что помню сама. Но память – капризная особа, иногда подводит. В сотый раз я проверяю себя, сравниваю свои старые, но живые до сих пор ощущения, с теми, о которых читаю в чьих-то опубликованных мемуарах. Чужие воспоминания порой волнующе интересны. И поток их, начавшийся давно, не иссякает до сих пор.
Так, может быть, вообще не стоит на фоне большой литературы выступать со своими малыми литературными попытками?
Не раз в минуты сомнений я спрашивала себя: зачем вообще взялась за свои рассказы. Стоит ли так упорно тратить подаренное судьбой время на переживание прошлого вместо того, чтобы писать, например, как обычно, об искусстве?
И отвечала, что стоит, потому что движет мной не просто любование прошлым, а с годами осознанное чувство долга. Я должна рассказать о тех, кто отдал свою жизнь двум поколениям детей, родившихся в 1910-х и 1920-х годах. Этих родителей дети нынешнего века совсем не знали. А ведь это те скромные, честные люди, кто достойно пережил время, вошедшее в общую мировую историю как страшное время диктатуры Сталина и его наследников. Это время давно позади, но о нем нельзя забывать.
Уверена, что не только я, многие мои сверстники с благодарностью вспоминают о родителях. Эти отцы и матери, дедушки и бабушки вырастили нас, преданно и бескорыстно любили. Мы тоже любили их, иногда неумело. Подчас, сами того не замечая, причиняли им боль. Порывали с корнями в поисках собственного пути. Они ушли, когда были гораздо моложе, чем мы, нынешние. И память о них с годами становится все требовательнее и дороже.
Как они жили – свидетели трех войн и трех революций, вольные или невольные участники того, что называлось строительством социализма? Сейчас, августе 2022 года, когда я давно уже живу в другой стране, мне необходимо как можно лучше понять их, увидеть себя рядом с ними.
Я вновь и вновь перечитываю написанное ранее. Что это? Некий род покаяния? Может быть.
Да, именно так я вспоминаю город, где выросла, а в тяжкие годы войны оставила его навсегда. О том Ленинграде, с его особой историей, теперь хочется говорить с нежной любовью. Нельзя обойти молчанием и перепутья собственной жизни, лежавшие порой далеко от родного гнезда: все они так или иначе, рано или поздно вели к родителям. И нужно написать о родных и друзьях, которые временами заменяли мне родительскую поддержку.
Вспоминая о своем детстве и юности, я, возможно, слегка идеализирую милые мне образы старших. Так многие из нас на склоне лет, особенно остро ощущая тяжесть потерь, пытаются восполнить то, что по легкомыслию молодости не додали родителям, пока они были живы и жаждали нашей ласки и одобрения. Их жизнь и характеры теперь представляются нам в романтическом свете, и думается, они вполне заслужили именно такую дань потомков.
Элла Ганкина
Часть первая
Давно прошедшее
В низинной части Преображенского еврейского кладбища, недалеко от линии Октябрьской железной дороги, за скромной оградой находятся могилы моих родителей. На мраморной доске в изголовье надгробия начертаны имена и даты: Михля Ганкина, 1892–1958, и Залман Ганкин, 1889–1966. Бывало, приезжая из Москвы, я боялась не найти это место, хотя хорошо знаю, что идти надо мимо старой полуразрушенной синагоги и памятника скульптору Марку Антокольскому – тогда наверняка не заблудишься.
В другой стороне кладбищенских аллей, более сухих и ухоженных, под высокой толстой березой покоится наша «маленькая бабушка» Шейна Берковна Дорошева – мамина мама. Могилу папиной мамы – Риси Янкелевны Ганкиной (которую мы, дети, называли «большой бабушкой») после войны найти не удалось. Возможно, она осталась в той стороне кладбища, что вообще не сохранилась после Второй мировой войны и ленинградской блокады.
Давно не была я на старом кладбище. В короткие побывки замечала, как оно ветшает, как весенняя талая вода и осенняя грязь пригородной распутицы все ближе подбираются к захоронениям.
После эвакуации из блокадного города в феврале 1942 года и недолгого пребывания на Урале я жила в Москве и лишь ненадолго приезжала в Ленинград. Могилы наших родных постоянно навещали моя старшая сестра Наденька и ее дочка Оленька – единственная моя племянница. Потом и они оставили родной город. Оля еще в 1970 году уехала в Киев к мужу Ивану Дмитриевичу Родичкину. Оба успешно работали там архитекторами. Мы все любили их небольшую квартирку в центре Киева, их руками построенный дом в селе Жовтнéво Житомирской области. Ездили туда летом из Москвы отдыхать с подрастающими детьми. Но вот пришла чернобыльская катастрофа, и не стало Вани. Он скончался в 2000 году от лейкемии. Оля продолжала жить и работать одна.
Наде было уже за девяносто, когда дочь решила забрать ее к себе в Киев. И моя сестра вернулась в город, где родилась. Там она и похоронена в 2006 году рядом с Ваней.
Время неумолимо. В своем беге в будущее оно легко оставляет позади то, что еще недавно было настоящим. Преображенское кладбище привели в порядок, укрепили землю в низине, обновили оформление стареньких могил. Ветхие ограды вовсе убрали. Благотворные изменения коснулись и родительского захоронения. Оля позаботилась о том, чтобы вместо прежних громоздких раковин и обветшавших мраморных досок на новом подиуме поставили спроектированные ею две гранитных плиты. На темно-сером, почти черном граните заново выгравированы имена и даты жизни супругов Ганкиных.
В нынешнем Санкт-Петербурге (это старинное имя вернули городу 6 сентября 1991 года) от рода Ганкиных-Дорошевых и от семьи Ганкиных не осталось никого. Мои дедушки – Элий Дорошев и Залман Ганкин – умерли гораздо раньше своих жен. Я знаю о них только по рассказам старших.
* * *
Несмотря на чисто провинциальное еврейское происхождение, свой дом в первые десятилетия ХХ века – в Москве, затем – в Петербурге-Петрограде – родители смогли устроить на буржуазный манер. Я родилась в маминой спальне, в большой, красиво обставленной квартире, где желанной новорожденной отвели просторную, светлую детскую комнату с белой мебелью и фигурной лепниной на потолке.
Наш дом номер 24 по Загородному проспекту был построен финской акционерной компанией (возможно, по проекту Рихарда Нирнзее) перед Первой мировой войной у знаменитых Пяти углов. Во время военных действий в нем размещался госпиталь, и говорили, что сама вдовствующая императрица Мария Федоровна навещала здесь раненых.
Теперь, когда я живу в Иерусалиме и меня окружает уникальная атмосфера древнейших памятников и событий мировой истории, облик Петербурга начала ХХ века встает перед мысленным взором с особенной своей прелестью и красотой. Исторические катаклизмы, связанные с революциями, не щадили его родословную, но коренные жители всегда оставались приверженцами деяний Петра-основателя, долго называя его не иначе как Петром Великим. И пусть читатель не посетует на то, что свои рассказы я начинаю с города моего детства.
Незадолго до моего рождения Петроград стал Ленинградом, но революционные переименования и города, и улиц не заставили петербуржцев забыть исконные издавна любимые названия. От Пяти углов было рукой подать до многих достопримечательных мест. До Литейного и Невского проспектов, до Александринского театра и Публичной библиотеки, до лучшего в городе Кузнечного рынка, куда съезжались со своими товарами торговцы не только из близлежащих городков и деревень, но даже из Великого Новгорода и Псковщины. И никто из нас не называл Невский проспект именем «Двадцать пятого Октября», Чернышев переулок – «Переулком Ломоносова», а Садовую улицу – «Улицей 3-го июля». Долго говорили: Царскосельский, а не Витебский вокзал, Обуховская больница, а не больница Военно-медицинской академии. Напротив нее находился когда-то знаменитый Семеновский плац – мрачное место казни первых революционеров – петрашевцев и народовольцев, позже превращенное в ипподром. Здесь построили в начале 1960-х годов новый Театр юного зрителя, но и тут название «Пионерская площадь» не прижилось у старожилов.
Весь уголок старого Петербурга вокруг Пяти углов славен многими именами и событиями в истории города. Никогда не менял своего старинного имени Загородный проспект, на котором стоит до сих пор наш дом. Он получил это название от Загородной дороги, которая в начале XVIII века была еще пешеходной тропой от «Невской першпективы» в Екатерингоф – поместье второй жены Петра Первого – Екатерины Алексеевны. В 1739 году Комиссия о Петербургском строении дала дороге имя «Загородной улицы». Вдоль нее шли огороды, разбивались сады, строились дачи. Отсюда, век спустя, взяла свое начало железнодорожная ветка в летние резиденции монархов – Павловск и Царское село. Эту первую в России железную дорогу проложили по указу царя Николая I, и в 1837 году построили Царскосельский вокзал. Много позже, с увеличением железнодорожных направлений на Запад, его назвали Витебским.
Задолго до этого, по градостроительному плану Петра Первого три прямых луча – Невский проспект, Адмиралтейская перспектива и Вознесенский проспект – шли на Загородную дорогу от набережной Невы, где стояло первое деревянное строение Адмиралтейства с корабельной верфью.
Солидное каменное здание, спроектированное архитектором Андреяном Захаровым, построили гораздо позже, в 1823 году. Это его венчает знаменитый кораблик-флюгер, издали хорошо видный отовсюду.
По мере застройки левого берега в сторону Смольного монастыря район Литейно-пушечного двора стал началом постепенно расширявшегося Артиллерийского ведомства. Оно позднее раскинулось вдоль Литейного проспекта вплоть до проспекта Невского.
Как раз на продлении Литейного, уже в округе Загородной дороги, образовалось одно из городских поселений – Придворная слобода. Тут в 1708 году на площади, названной Торговой, поставили первую деревянную Владимирскую церковь. Отрезок дороги от церкви до перекрестка проспектов Невского и Литейного назвали Владимирским.
От площади, где стояла церковь, теперь начинался прямой путь к дальним окрестностям, возникали все новые и новые городские строения, и бывшая Загородная дорога стала Загородным проспектом.
Первыми прихожанами Владимирской церкви были придворные ремесленники, о чем до сих пор свидетельствуют названия окружающих ее улиц и переулков. Это Колокольная, Стремянная, Ямская и Разъезжая. Переулки: Хлебный, Свечной, Поварской и Кузнечный.
В 1741 году по проекту архитектора Михаила Григорьевича Земцова, ученика и помощника Доменико Трезини, любимого архитектора Петра, на месте деревянной постройки возвели каменный храм, которому также дали имя – Владимирский. Его строительством руководил сын Доменико Трезини – Пьетро.
Начиная с 1747 года церковь достраивали почти все известные архитекторы Петербурга: в 1766 году утвержден был проект Антонио Ринальди, с 1783 года строительством руководил Иван Евгеньевич Старов. Строилась и колокольня собора. В 1791 году по проекту Джакомо Кваренги построили два яруса. Третий ярус возвели в 1848 году по проекту Луиджи Руска.
Много успел пережить Владимирский собор: пожар, приостановку строительства и его возобновление, разнообразные усовершенствования. Этот солидный архитектурный комплекс с небольшим, но прекрасным садом стал любимым храмом горожан. Из царской домовой церкви Аничкова дворца на Фонтанке сюда перенесли золоченый иконостас с богатой резьбой по дереву. Так собор стал одним из значительных памятников петербургского зодчества и благодаря колокольне – одним из заметных высотных ориентиров города.
Постепенно обрастая постройками, Загородный проспект привлекал все больше жителей. Его полюбили литераторы, художники, музыканты и прочая неремесленная и нечиновная публика. Еще в конце XVIII века здесь поселился поэт и драматург Василий Васильевич Капнист. Местность от церкви вдоль проспекта была, как вспоминают первые историки Петербурга, особенно богата садами. В одном из домов с большим садом жил композитор Михаил Иванович Глинка.
Чьи только имена не сохранила историческая память Загородного проспекта… Прямо напротив собора, в доме купца Тычинкина номер 1, квартировал друг Пушкина поэт Антон Антонович Дельвиг в пору, когда он издавал свою «Литературную газету» и альманах «Северные цветы». Здесь бывали Пушкин, Жуковский, Одоевский, Баратынский, многие их современники-музыканты. Рядом, на Владимирском проспекте, в доме Балашова за номером 4, еще раньше, в 1812 году, жил Константин Николаевич Батюшков.
Считается, что Пушкин посещал цирюльню на углу Загородного проспекта и Разъезжей, захаживал к другу Кюхельбекеру, который неподалеку, на Кабинетской улице, преподавал в известной в городе мужской гимназии. На месте стариной цирюльни долгие годы работала парикмахерская. Рядом с ней в доме номер 3 по Разъезжей улице разместилась немецкая гимназия. Через много лет здесь открылась 1-я советская трудовая школа, где мы с сестрой учились.
А в давние времена на Загородном в квартире живописных дел цехового мастера Ширяева обитал крепостной художник Тарас Шевченко до его выкупа из крепостных и поступления в Академию художеств. Говорят, что Достоевский писал «Белые ночи» в доме на углу Владимирского проспекта и Графского переулка. И жил писатель совсем недалеко от Загородного, на углу Ямской улицы и переулка Кузнечного.
На углу Загородного проспекта и Разъезжей улицы помещалась редакция Некрасовского «Современника». Здание сохранилось и в советские времена. Здесь устроили почтовое отделение. Многие годы мы получали тут почту. Отправляли письма и телеграммы, посылали посылки. В большой, довольно светлый почтовый зал на втором этаже, со времен Некрасова – не иначе, вела старая скрипучая деревянная лестница. Почтовому отделению присвоили номер «2», что придавало ему определенную значительность: номер «1» имел Главный ленинградский Почтамт.
В детстве я понятия не имела об истории нашей улицы, но чем больше взрослела, чем реже бывала в родном городе – тем больше им интересовалась. И любая историческая мелочь казалась важной для понимания атмосферы, которая окружала моих родителей и незримо формировала меня. Проходя по Загородному проспекту, я словно прикасалась к его духовной истории, отразившейся в личностях давно ушедших знаменитых петербуржцев.
Рядом с нашим домом, в номере 22, жил известный врач Сергей Петрович Боткин. В доме 28 в период активного строительства доходных домов поселился композитор Римский-Корсаков, и его квартира быстро стала центром музыкальной жизни Петербурга. На его знаменитые вечера собирались лучшие музыканты России. Здесь встречались Глазунов и Танеев, Скрябин и Стравинский, пел Шаляпин, бывали критик Стасов и художник Врубель с женой – певицей Надеждой Ивановной Забелой-Врубель.
Постепенно именно такие четырех- и пятиэтажные дома вытеснили тут постройки и сады XVIII–XIX веков. Тогда-то и образовался перекресток четырех улиц: Чернышева переулка, улиц Троицкой, Разъезжей и Загородного проспекта. Место получило название Пяти углов. К этому времени от зеленого богатства всей округи почти ничего не осталось. Надвигалось новое, XX столетие, со своей архитектурой, своим стилем городского существования.
В «Шуме времени» – этом уникальном образце прозы Осипа Эмильевича Мандельштама – я нашла несколько неслучайных упоминаний о Загородном проспекте, каким был он в начале XX века. Там в одном из больших доходных домов находилось Тенишевское училище, где будущий поэт учился с 1900-го по 1907-й годы. На Загородном снимали квартиру его родители. Здесь жил родственник по матери Семен Афанасьевич Венгеров – известный историк русской литературы и автор «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых». Ностальгические воспоминания поэта о раннем петербургском детстве окрашены впечатлениями семи- или восьмилетнего мальчика Мандельштама о священном и праздничном для него массиве Петербурга, чьи «гранитные и торцовые кварталы», это «нежное сердце города», созерцал он восторженно на прогулках с няней. Тут упоминает он Большую Морскую, торцовую набережную Мойки, Крюков канал и голландский Петербург, конные памятники, кариатиды Эрмитажа на таинственной Миллионной. Маршруты, знакомые каждому, кто вырос в этом особенном и неповторимом окружении. И не так уж они далеки от нашего Загородного проспекта.
Возможно, покупая квартиру, мой папа еще не знал всех исторических подробностей возникновения и роста проспекта, так же как имен знаменитых жителей. Но его привлекли удобства и современный облик солидного дома номер 24. Чем-то он мог напоминать ему московский дом в Кривоарбатском переулке 3, тоже построенный в стиле модерн, где наша семья жила с 1918-го по 1923-й год. Только по сравнению с кривыми Арбатскими переулочками Загородный проспект был прямой, и венчала всю перспективу колокольня Владимирского собора.
Я хорошо знаю и люблю этот внушительных размеров белокаменный храм с золотым верхом колокольни и главок, изящными деталями главного фасада. Сейчас действующий собор прекрасно отреставрирован и включен в туристические путеводители как одна из достопримечательностей современного Санкт-Петербурга. А в моем ленинградском детстве стоял он заброшенный и мрачный. Жестокое разграбление церковных реликвий и дорогого внутреннего убранства началось в 1922 году. И еще долго няни, гуляя с детьми в тенистом скверике за чугунной оградой, крестились, с тоской глядя на запустение, вздыхали, проходя мимо окон и дверей, заколоченных грубыми и серыми от времени досками.
Мое самое раннее воспитание родители доверили, как это бывало тогда в состоятельных еврейских семьях, замечательной русской няне, православной христианке Наталье Алексеевне Лаврентьевой. Мы с ней тоже гуляли в этом святом для нее месте. Весной и летом в скверике на скамейках сидели приветливые старушки, степенно переговаривались между собой. Около них тихо играли дети. Снаружи за оградой было людно и шумно, тренькали трамваи, на остановке толпился народ. С Кузнечного рынка сюда, на трамвайную остановку, спешили хозяйки с кошелками, жители пригородов с бидонами и мешками. Трамвай шел отсюда к Финляндскому вокзалу. А оттуда, с финской стороны, рано утром приезжали веселые краснощекие финки-молочницы. Они разносили по домам нашей округи свежее молоко, творог и сметану и до полудня возвращались домой.
Весь угол вдоль церковного ограждения занимали лотки петербургских букинистов. Книголюбы и студенты жадно рылись в развалах старых книг. Веселые разносчики с деревянными подносами на лямках тут же продавали горячие бублики.
На Загородном проспекте действовала в ту пору только маленькая домашняя церковь, каким-то образом уцелевшая во время повсеместной борьбы с религией. Она находилась в одном из двухэтажных строений, окрашенном в темно-зеленый цвет, кажется, под номером семь. Стояла она незаметная, без паперти, со входом прямо с панели. Потому, скорее всего, и уцелела.
Возвращаясь из садика при соборе, мы с няней иногда заходили внутрь. В маленькой церкви было уютно, пахло тающим воском, мерцали огоньки лампад. Няня ставила свечки за упокой души двух ее сыновей – георгиевских кавалеров, погибших в Первой мировой войне, целовала икону Богородицы. Тем и кончалось наше недолгое посещение.
Няня сама никогда не заводила со мной разговоров о Боге. На мои вопросы о нем отвечала просто, в меру доступности детскому пониманию. Так что у меня в воображении постепенно сформировался образ доброго высшего существа, которое все может и все видит, глядя на людей со своих заоблачных высей. И потому, знала я от няни, надо и мне быть доброй, правдивой, любить близких и не совершать дурных поступков.
Мама безмерно уважала няню и доверяла ей. Она не препятствовала моему эпизодическому знакомству с православным церковным таинством, понимая, что когда я вырасту – сама разберусь в сущности веры. К празднику Православной Пасхи мама пекла для няни душистые, румяные куличи. С утра к няниному возвращению из церкви для нее в столовой накрывали стол, на нем ставили сладкую пасху в деревянной форме с вырезанными буквами «Х» и «В», освященный кулич и крашеные яйца.
В раннем детстве я много хворала, Наталья Алексеевна проводила со мной дни и ночи. Ей было лет шестьдесят, когда она появилась в доме, совершенно седая, уже согнувшаяся под тяжестью пережитого, но необыкновенно приветливая, с неспешной мягкой походкой. Мы обожали друг друга. Ее светлое лицо с глубокими морщинками и всегда улыбчивым беззубым ртом казалось мне милее всех других лиц. Я любила утром забираться к ней в постель, играть длинной серебряной цепочкой нательного крестика. Слушая нянин нежный шепот, гладила ладошкой ее белые волосы и светлый пушок впалых старческих щек, синие жилки на натруженных руках. Сама я называла Наталью Алексеевну нежным придуманным именем «Нянинька». Она вполне заменяла мне общение с родителями. От нее, во время прогулок по нашей улице, я получала свои первые знания о внешнем мире.
На углу нашего проспекта и Разъезжей улицы, неслучайно получившей это свое название, день и ночь стояла тогда цепочка бывалых извозчиков. В черные коляски на рессорах, с верхом, который поднимался или складывался гармошкой, запрягались бойкие лошадки. Извозчики по-хозяйски сидели на козлах в толстых армяках, а зимой в тулупах и залихватских шапках. Хлопали огромными рукавицами, громко покрикивали, зазывая седоков проехаться за гривенник или пятиалтынный. По булыжной мостовой Разъезжей подкованные железом лошадиные копыта громко цокали, выбивали из камней голубые искры. На деревянных торцах Загородного проспекта звук становился глухим и деликатным.
На нашей стороне проспекта, близко к Разъезжей, находилась небольшая булочная. Дверь ее распахивалась с громким стуком, и на волю вылетал теплый запах хлеба и сдобы. Пекарня находилась за внутренней дверью позади прилавков. Первого марта, когда уже с крыш падала и звенела капель, а под ногами блестели лужицы, в знак прихода весны тут пекли «жаворонков»: сладкие булочки-птички с изюминкой-глазом. Мы с няней покупали несколько штук и заворачивали их в прихваченное из дому полотенце, чтобы пахучие птички не остыли. Съесть жаворонок на улице няня не разрешала: он считала, что это противоречило хорошему воспитанию.
Местом моего особого притяжения была москательная, или как ее у нас называли – керосиновая лавка. Она располагалась на другой стороне проспекта. В ее нижнее помещение вели несколько каменных ступенек.
В слабо освещенном подвальчике копошились люди, двигался огромный черпак, виднелась большая воронка. Это хозяин наливал покупателям жирный, пахучий керосин. Кроме него продавали знаменитое «мраморное мыло» – белое с синими узорами, уголь и разные скобяные товары.
Войти в этот таинственный полумрак было еще заманчивее, чем в булочную. Но няня считала, что в лавке слишком тесно и грязно, а в больших окнах-витринах можно увидеть все самое интересное из того, что есть внутри. Действительно, здесь, на свету, особенно ярко сверкали оцинкованные ведра, корыта, громоздились щетки и швабры, змеились веревки и мочалки, горки угля выглядывали из плетеных лыковых мешков. Таким вот углем у нас дома каждый вечер топили самовар.
Родители одевали меня очень красиво. Белая длинношерстная шубка из меха ангорской козы и белая шапочка с мохнатым помпоном зимой вызывали восхищение прохожих. Светлое осенне-весеннее пальто с большими красивыми пуговицами портниха сшила точно по моей маленькой фигурке. Отдавалась дань модным еще в те годы матросским костюмчикам с большим квадратным воротником, но платья предпочитали нестандартные. Лакированные туфельки прятались для гулянья по улице в суконные ботики.
Конечно, все это никак не вязалось с нечистотой москательных товаров. Другое дело – чистый гастрономический магазин. Туда мы иногда заходили по поручению мамы.
Он находился на углу Загородного проспекта и Чернышева переулка, рядом с керосиновой лавкой. Всегда ярко освещенный, красовался своими богатыми витринами. Здесь продавалось свежее мясо и разного рода гастрономия. Его хозяина – таинственного для меня могучего человека по фамилии Лютов – уважали все покупательницы Загородного проспекта.
К Лютову ходили за провизией – теперь редко услышишь это старинное «вкусное» слово. Дома говорили: «надо пойти к Лютову», «спросить у Лютова» «это надо покупать только у Лютова» – как будто от него зависело все наше продовольственное хозяйство.
Полный, улыбчивый и уверенный в своем могуществе, он не стоял за прилавком. К своим постоянным клиентам выходил поздороваться из собственного кабинета. Покупательниц почтительно называл «мадам».
Толстые, красиво перевязанные колбасы, гигантские ожерелья сосисок, головки всевозможных сыров, сияющие слезой в своих дырчатых надрезах, желтое сливочное масло в маленьких аппетитных бочонках – все притягивало глаз своей свежестью и изобилием. В красивых расписных жестяных банках продавался чай.
Мы с няней не спеша прохаживались по улице, и она, казалось, тоже двигалась нам навстречу. Шел веселый парень – трубочист со следами сажи на лице и на руках. Точно такой, как на картинке в одной из моих детских книжек. С длинной ложкой-черпалкой, проволочной кисточкой за спиной и большим мотком веревок, перекинутым через плечо.
Он был желанным гостем в домах, где топились печи. Даже там, где как у нас, работало паровое отопление, на кухнях еще действовали старинные дровяные плиты, дымоходы требовали чистки. Повстречать трубочиста считалось доброй приметой.
Попадались навстречу всякие прохожие, спешили служащие, сновали хозяйки с корзинками и кошелками, шел точильщик со станком на плече, торопились важные лудильщики кастрюль. Медную кухонную утварь полагалось время от времени обновлять. Лудильщики сразу заходили во дворы, где находилась для них работа.
Важные дворники с номерными бляхами на белых фартуках, с огромными метлами в руках, как стражи, стояли у ворот каждого дома или сидели на гранитных тумбах, разглядывая проходящих. К таким – врытым в землю тумбам – когда-то привязывали лошадей, а теперь они служили сиденьями.
На ночь дворники запирали ворота и калитки. Жители домов, приходившие поздно ночью, звонили в звонок дворницкой. Отпирая заветный вход во двор, заспанный страж получал в благодарность гривенник или два. В те годы еще в ходу был медный грош, только купить на него было нечего. Со временем такса за ночной дозор дворников все росла, и плата доходила до полтинника, а то и рубля.
Мы с няней с уважением относились к дворникам, миновали их и шли дальше, поглядывая на встречных. Няня учила смотреть на людей деликатно, любопытный взгляд она считала невежливым, а если мне улыбались – нужно было обязательно улыбнуться в ответ. Иногда нам встречались знакомые, и мы обе приветливо с ними здоровались.
Реже появлялся и быстро проходил старый батюшка из нашей маленькой церкви. Его черная сутана и длинные, развевающиеся на ветру волосы, почему-то пугали меня. Няня, завидев батюшку, молча наклоняла голову, а мне велела держаться за пуговицу на пальтишке. Почему-то считалось, что такая встреча и этот странный ритуал с пуговицей хранят дитя от дурного глаза.
Дома нас ждали любимые книжки. Их приносил папа – все знаменитые создания Чуковского и Маршака, художников Лебедева и Конашевича, Анненкова и Чехонина. «Мойдодыр», «Вчера и сегодня», «Цирк», «Мороженое», «Книжка про книжки», «Пожар»… Они лежали на моем детском столике. Прекрасные яркие картинки, простые, быстро запоминающиеся стихи. И в них меня, как на улице, почему-то особенно волновали вещи. Наверное, всякий ребенок через малые вещи осваивает большой мир.
«Лампа керосиновая, свечка стеариновая…»
Или:
«Лампа плакала в углу
За дровами на полу…»
Я жалела старую лампу – ведь в нашей домашней кладовке тоже в бездействии стояла такая. Электрический свет сделал ее ненужной.
Вот на картинке ручка с пером. И они устарели. Вместо них стрекочет новомодная красавица: пишущая машинка. Ровными черными буковками аккуратно и быстро выводит слова. На картинке в моей любимой книжке «Вчера и сегодня» она стоит точно так, как у папы в кабинете на письменном столе. Так верно разглядел все это художник Лебедев, будто сам побывал в нашей квартире.
Разные лики городской жизни, все, что случалось за пределами нашей улицы, меня тревожило. Где-то за оградой Таврического сада разворачивалась драма мальчика-грязнули из книжки «Мойдодыр», там расхаживал по панели (в Петербурге панелью назывался тротуар) сам Крокодил, строгий ревнитель чистоты и порядка.
А в другом краю города – тревожно.
«На площади базарной, на каланче пожарной
Круглые сутки дозорный у будки…» – уже с этих слов охватывает мою детскую душу страх: наверное, случится пожар! И все из-за непослушной девочки Тани! Я сердилась на Таню: ведь послушание занимало одно из важнейших мест в няниной шкале нравственности. Было страшно, и в то же время хотелось еще и еще раз смотреть на тревожащие картинки – так притягателен был могучий Огонь.
В цветных рисунках Конашевича оживали те места, до которых мы на прогулках своих не добирались. Звонкое, непонятное слово «каланча» очень нравилось. Скорее всего, пожарное депо стояло не очень далеко от нашей улицы, может быть, на площади Сенного рынка. Что до огня, то он у нас тоже разгорался и гудел на кухне в большой дровяной плите, облицованной белым кафелем. Огонь бежал, завывая, под конфорками. Но тут хозяйничали только умелые взрослые. Мне даже близко к горящей плите подходить не разрешалось. Значит, и пожара быть не могло.
Незабываемые книжки служили еще нескольким поколениям детей в нашей семье. На всех красивых обложках внизу стояло заманчивое слово: «Радуга». Так называлось издательство, где они выпускались.
Папа, вероятно, был знаком с хозяином «Радуги» – Львом Моисеевичем Клячко. Дома я часто слышала его имя. Пройдут долгие годы, и я узнаю много интересного об этом замечательном человеке.
Найдутся исследователи, которые восстановят яркую картину его деятельности. Напишут о том, как он молодым еще в царской России пробивался в журналистику сквозь препоны черты оседлости, находился под слежкой царского департамента полиции.
Как, наконец, он в трудные для советской России годы создал частное издательство «Радуга», издавал там не только детские книжки, но и «Еврейскую летопись», где выступал и как издатель, и как автор.
Одновременно с «Радугой» Государственное издательство в Ленинграде тоже издавало книги для детей. Рядом с такими яркими и звонкими изданиями Маршака и Лебедева, как «Цирк» и «Мороженое», с волнующим «Пожаром», – незаметная на первый взгляд и почти монохромная книжка «Наша Кухня» нравилась мне не меньше, а может быть, даже больше.
Потому ли, что в ней опять-таки жили знакомые домашние вещи? Не знаю. Детские вкусы и пристрастия бывают порой необъяснимы. Большие кастрюли на полках, ступка с пестиком, блестящая разливательная ложка с моей любимой лапшой…
«Висит лапша на ложке,
Свесив ножки…»
Этот рисунок я готова была разглядывать бесконечно и бесконечно повторять простые две строчки-подписи под ним.
Конечно, тогда я понятия не имела о том, что передо мной единственные стихи, написанные для детей молодым Николаем Чуковским, что автором иллюстраций к ним был Николай Федорович Лапшин.
Стихи, может быть, и уступали творениям Маршака, но рисунки завораживали своей простотой и точностью.
Через много лет, когда уже не будет в живых ни Маршака, ни обоих авторов «Нашей кухни», мне в руки попадут воспоминания Николая Федоровича о детстве. И я узнаю, с каким вниманием мальчик – будущий великолепный мастер акварели и художник книги – любил рассматривать простые вещи у себя дома и на улице – всюду, где он бывал с родителями или с няней.
Мои родители тоже постепенно открывали мне большой мир за пределами уличного и книжного мира. Летом нас с няней вывозили на дачу. Ехали недалеко, по одной из веток финляндской дороги: в Александровку или в Тарховку.
Оба дачных поселка находились на побережье Финского залива, в той его мелководной части, которую прозвали «Маркизовой лужей», потому что когда-то французский министр маркиз де Траверсе запретил российским кораблям плавать дальше Кронштадской крепости, и офицеры Балтийского флота отомстили ему таким ироническим названием залива.
Дачи на побережье пользовались огромной популярностью у родителей: купанье детей считалось тут самым безопасным. В воду входили долго, и все море было по колено, как в поговорке. Всюду вдоль берега – высоченные сосны, белый песок и аккуратненькие домики с башенками-мезонинами.
Деревянное крылечко нашей дачи, на которое я сначала заползала на четвереньках, а к концу лета уже ступала окрепшими ножками – вот и все, что я смутно помню об этих местах.
Веселые приезды мамы с папой, да еще, конечно, самовар с трубой. Он стоял и пыхтел прямо на траве, топили его здесь не углем, как в городе, а сосновыми шишками. Их собирали мы с няней около дачи, где тоже стояли высокие сосны.
Трава вокруг дачного домика казалась мне тогда непомерно высокой и густой, над ней порхали желтые бабочки-капустницы. Иногда прилетали другие красавицы с разрисованными крыльями. И детский сачок, этот непременный спутник дачной жизни, лежал без движения – так жаль было нам с няней их ловить. Но вот появлялся хозяин всех летающих – майский жук. Он гудел, как аэроплан, и от страха я бежала куда глаза глядят. Первое знакомство с природой то восхищало новыми впечатлениями, то пугало.
Зимой мама иногда возила меня в Детское село. В 1918 году Царское село на волне искоренения всего, что напоминало монархию, переименовали в Детское. Воздух здесь считался целебным, и ленинградских детишек, часто болеющих бронхитами, особенно рекомендовалось катать на лошадях в погожие зимние дни.
Мы с мамой приезжали в Детское на пригородном поезде и шли к стоянке извозчиков. Коляски стояли уже не на колесах, а на санных полозьях. Знакомый извозчик хорошенько закутывал нас с мамой в теплую полость из овчины, и мы ездили по заснеженным улицам час-полтора, мимо знаменитых дворцов и парков. Требовалось лишь поменьше разговаривать и ровно дышать чистым зимним воздухом.
Мне исполнилось четыре года, когда родители первый раз повезли меня на юг, к Черному морю. Наше большое путешествие начиналось с приезда в Москву, и в этом заключалась его особая прелесть.
Москва казалась мне огромным, очень шумным и веселым городом, светлым и солнечным, в отличие от хмурого Ленинграда. Детский курорт, где нам предстояло прожить почти все лето, назывался необычным словом – Анапа.
Я открываю современную карту Таманского полуострова, чтобы найти на ней местечко Анапу. Вижу его в одной из прибрежных бухт.
Нет, это уже не местечко, здесь раскинулся новый современный курорт, со всеми положенными ему сопутствующими строениями, с парой трехэтажных жилых домов, с гостиницей, Курзалом и спортивными сооружениями.
Старенькая «детская» Анапа живет только в моей памяти. Вот, помнится, как мы уже распрощались с таратайкой, на которой после поезда нас везла резвая лошадка (здесь это средство передвижения называется «линейкой»; чудо, а не повозка: мы сидели в ней на мягкой скамейке, спинами друг к другу, и болтали ногами), а теперь идем по дороге, выбеленной солнцем и усыпанной белым песком. Первое ощущение: очень жарко!
«Где же море?» – спрашиваю я маму.
«Море будет завтра», – улыбаясь, отвечает она.
Наконец, вся наша веселая компания Ганкиных и Коганов размещается в двух соседних домиках с просторным двором. Тут есть все для детских игр (у моря и в море мы проводим только самую жаркую часть дня): можно играть в казаки-разбойники, в палочку и даже в детские рюхи (по-нашему в городки).
Мой приятель и ровесник Толя Коган очень скоро научил меня лазать по заборам и не бояться морской волны. Море тут было гораздо глубже, чем в Финском заливе, но дети без страха барахтались в теплых волнах, пристроив на плечах самодельную связку из пустотелых тыкв. Эти приспособления традиционно использовались в Анапе как спасательные круги и считались вполне надежными. Родители сидели на берегу под самодельными палатками (простыня, натянутая на утопленные в песок четыре высокие палки) и наблюдали за своими чадами.
После купанья все отправлялись в «Кефирную». Здесь царствовала хозяйка-гречанка. Иссиня черные, гладко причесанные волосы и невероятной белизны улыбка. Настоящая красавица. Мы каждый день любовались, глядя на нее.
И так проходило лето. Поразительно, как это однообразие нам не надоедало…
Потом наступали долгие серенькие ленинградские зимы, которые мы проводили с няней в уютной детской. Здесь мы завтракали, обедали и ужинали, играли в куклы, читали. Няня была грамотной и говорила на хорошем русском языке.
Когда я стала постарше, мы с ней беседовали. Я расспрашивала о деревне, о ее детстве. Она рассказывала охотно и так увлекательно, что мне казалось, будто давным-давно жила она, как в сказке: «в некотором царстве, в некотором государстве»…
В действительности детство и юность ее прошли в Псковской губернии, где издавна стояли город Порхов и ее родное село Опоки. Выходила замуж и венчалась она в Порхове, но родные места не забывала.
Мне почему-то особенно запомнилась в ее рассказах городская площадь, где стояла церковь, откуда выходили после венчания нарядные молодые.
Говорила она обо всем этом неспешно и ласково, с особенной любовью ко всем мелочам деревенской жизни, к лесу, речке, деревенским детям и крестьянским обычаям. Эти увлекательные рассказы виделись мне цветными.
О своем раннем вдовстве, о гибели сыновей и петербургской жизни «в услужении», как няня называла долгие годы работы в богатых семьях, она говорить со мной не любила. Об этом хорошо знала мама. Приглашая няню, она дала работу ее единственной дочери. Анюта, или Нюта, как ее звали дома, помогала содержать в порядке квартиру, исполняла легкие поручения. У нее было больное сердце, и от тяжелого труда наша мама ее оберегала.
В уединенном уголке огромной квартиры мы с няней редко видели остальных взрослых. Родители приходили по утрам или, наоборот, вечером, пожелать спокойной ночи. Справиться о здоровье, поговорить с няней, приласкать меня.
Если же случались болезни, мама и папа особенно беспокоились и старались быть рядом. Приглашались известные доктора. Я любила веселого доброго доктора Григория Борисовича Конухеса. Он частенько засиживался у нас в столовой, чтобы поговорить с моими родителями вовсе не о болезнях, просто они втроем, наверное, любили побеседовать, как объясняла мне няня – «о жизни».
Другой доктор, по фамилии Бохон, казался мне злым. Я боялась его инструментов, противного зеркальца на лбу и, зная, что он придет, умоляла няню прогнать его шваброй. Именно швабру я считала самым надежным орудием нападения и защиты. Но вместе с Бохоном приходили родители и позволяли ему трогать мои уши, заглядывать в горло и в нос. Этого надругательства я долго не могла им простить. И горько плакала от обиды на груди у няни.
За исключением подобных врачебных налетов, в нашем с няней маленьком мирке царили мир, покой и уют. Я даже и предположить не могла, что однажды все круто изменится.
Здесь не место для глубокого анализа исторических перемен, которые совершались тогда в стране. Это дело историков-профессионалов. Мемуаристам опереться на официальные исторические источники тоже нелегко. Ведь нам хорошо известно, что история России и Советского Союза не раз переписывалась в угоду правящей власти. Мой долг – правдиво описать то, что происходило с нашей семьей.
До того, как обосноваться в Петрограде, папа, закончивший работу крупного подрядчика на прокладке южной железной дроги, переехал с своей семьей в Москву.
Состоятельный предприниматель, он арендовал в центре города в районе Арбата большую красивую квартиру. Подробный рассказ об этом еще впереди, а пока важно знать, что однажды среди бела дня в эту замечательную квартиру вошел советский матрос и предъявил папе ордер на одну из пяти наших комнат.
Папа посчитал себя оскорбленным в лучших чувствах. С первых дней переезда в Москву он много и охотно работал в советских учреждениях (подробности об этом я тоже опишу потом) и заслужил удобное жилье для семьи. Квартира, которую он выбрал, стоила очень дорого. И вдруг приходит совершенно чужой человек и предъявляет права на одну из комнат в папиной квартире!
Папа был разгневан не на шутку. Но, овладев собой, он предложил пришедшему повременить с выбором комнаты до завтра. Затем попросил маму не беспокоиться, а сам поздно вечером сел в скорый поезд и уехал в Ленинград. Там-то он купил ту самую квартиру, в которой через пару лет я родилась.
Однако все неприятности, начавшиеся в Москве, настигли папу с семьей в Ленинграде. Он должен был смириться с ограничениями в быту и в уровне жизни, которых, как ему казалось, избежал, переехав из пролетарской столицы Москвы в Петроград.
Прежде всего, это было так называемое уплотнение. Местные власти продолжали выполнять решение центрального большевистского руководства об улучшении жилищных условий трудящихся масс. Для популяризации этого мероприятия народный комиссар Анатолий Васильевич Луначарский написал в 1918 году сценарий для художественного фильма «Уплотнение», и фильм быстро вышел в прокат.
Я заглянула в Интернет и убедилась в том, что фильм с небольшими изъянами сохранился в Госфильмофонде. Я не уверена, что мои родители смотрели этот, с позволения сказать, шедевр. Но пострадали они самым непосредственным образом, еще в свою бытность в Москве.
В квартиры частных владельцев начали вселять представителей рабочего класса, демобилизованных красноармейцев, многосемейных жителей подвалов. Москва шла впереди в этом движении, город Ленина немного отставал, но и до него докатилась волна социальной уравниловки.
Уже давно отняли все, что можно было, у дворян и помещиков, лишили их жилья, имущества и гражданских прав. Теперь принялись за более или менее состоятельного обывателя, за людей, лояльных советской власти, но еще не вовлеченных в ряды советских функционеров, не защищенных принадлежностью к правящей партии большевиков.
Переехав в Петроград в 1923 году, папа уже через несколько лет после переезда понял, что не стоит дожидаться, когда к нему, как это было в Москве, посторонние люди придут с ордером на одну или две комнаты. Он сам предложил одной знакомой семье занять лучшую половину нашей семикомнатной квартиры с парадным ходом.
Нам остались четыре комнаты с узким длинным коридором и кухней, выходящие на так называемый черный ход в дальнем втором дворе дома. И вот, выход из угловой «буфетной» в той части, где теперь жили чужие люди (здесь обычно стоял наш большой буфет с множеством всякой посуды, самоварный столик и стол для закусок), наглухо закрыли, заложив кирпичом.
Со стороны коридора и комнат, где поселились мы, построили антресоли и повесили плотный занавес. Никто теперь не мог обвинить папу в том, что он, как буржуй, имеет роскошные апартаменты и его надо уплотнить.
Мое детское сознание не улавливало причин нагрянувших перемен, я лишь недоумевала, почему однажды проснулась не в нашей с няней комнате, а в родительской спальне, куда перенесли белую детскую мебель. Теперь я завтракала и обедала за общим столом, мне разрешалось выходить в коридор, заглядывать в недозволенные прежде уголки квартиры – кладовую и кухню. Везде что-то ремонтировали, убирали, чистили. На это время нас с няней все чаще отправляли погулять.
Самоограничение, к которому сознательно прибегнул папа, несомненно, было для него болезненным. И он старался облагородить новое жилье. В кухне настелили паркет, дальний ее угол отгородили высокой перегородкой с дверью. Там на кафельный пол взгромоздили дровяную колонку с фигурной чугунной дверцей. Привезли белую ванну и современный умывальник. Перед колонкой поставили деревянную скамейку. Уютно было сидеть на ней и смотреть, как разгораются в маленькой топке дрова. Красивая и просторная ванная комната осталась на парадной половине.
Часть прежней обстановки пришлось поставить на новых местах. Папин кабинет – солидный письменный стол и два вольтеровских кресла – теснились теперь в эркере столовой. Сюда переехали буфет, большой обеденный стол и двенадцать стульев. Кухня отчасти служила прихожей. В нее входили с черного хода по узкой лестнице с тонкими железными перильцами. Одностворчатая входная дверь, крашеная рыжей краской, запиралась большим железным крюком.
Папа поспешил врезать в нее английский замок, провести электрический звонок. Дверь утеплили, обтянули благородного цвета клеенкой, простеганной тесьмой с металлическими кнопочками. О нарядных двустворчатых дубовых дверях парадного хода, с красивыми английскими замками и мелодичными звонками-вертушками, об импозантных мраморных лестницах с узорными перилами и о большом вестибюле, также как об удобной прихожей с вешалками и корзинами для зонтов, пришлось забыть.
Родители мужественно приспосабливались к своему новому положению. Пришлось отказаться от прислуги. На кухне не хозяйничала больше кухарка. Только прачка Августа приходила стирать в общественной прачечной во дворе и помогала маме сушить и гладить ворохи белоснежного белья.
В те годы все сушили белье на чердаках под крышей, и я увязывалась за взрослыми, чтобы посмотреть, как пучки солнечного света бьют в темный чердак из слуховых окошек, как гуляет там ветер среди старых брошенных стульев и прочего ненужного хлама.
Няня ни за что не разрешила бы мне бегать на чердак. Но она уже не жила с нами. После переезда на другую половину квартиры нам пришлось разлучиться. Няня и Нюта вернулись туда, где они жили до прихода к нам: в свою комнату на Васильевском острове.
Горевала о няне не одна я. У нас дома ее любили все: и родители, и моя старшая сестра Надя. Когда тихой уединенной детской не стало, мама не сочла возможным держать няню, не имея для нее удобной комнаты и постели. Так для меня началась совсем другая жизнь. И праздничными днями этой новой жизни стали поездки с мамой к няне в гости.
Помню, как мы собираемся. Сначала заходим в булочную и в кондитерском отделе покупаем гостинцы (это нянино слово): печенье разных сортов, карамельки, «постный сахар» в виде разноцветных мягких помадок. Хозяйка булочной знает нас с мамой – ведь мы часто приходим за гостинцами.
Я с увлечением смотрю, как на металлических чашках весов качаются бумажные кульки и гири, не сразу сходятся клювики фигурных уточек, показывающих точный вес. Все, наконец, взвешено и уложено в кошелку. Можно садиться в трамвай. Ехать нам далеко, на остров…
Время рабочих и служащих, когда утренний ленинградский трамвай переполнен и те, кто не поместились внутрь, висят на подножках, уже миновало, Мы поднимаемся на площадку и входим в просторный вагон. Можно вдвоем устроиться у окошка и смотреть на улицу, слушать, что расскажет мама.
Эти поездки с ней открывали мне новые уголки большого города, простиравшегося далеко за пределы Пяти углов.
Васильевский остров жил своей историей, своими местными достопримечательностями. Вся атмосфера отличалась здесь от нашего центра. Повсюду чувствовалась близость Невы, Малой Невки и речки Смоленки, которые окружали остров.
Кое-где вместо гранитных набережных зеленели травянистые сходы к воде. Тучков мост оставался деревянным со старыми деревянными оградами. За ним мелькали дымки речных суденышек. В ветреную погоду со стороны залива доносился далекий запах моря. И дорога каждый раз обещала новые впечатления.
Этот большой район был гораздо более старинной частью Петербурга, чем район нашей Загородной дороги. Людские поселения существовали тут задолго до прихода царя Петра. Городская плановая застройка по указанию императора началась только в 1715 году. К тому времени почти весь остров еще покрывали леса.
Поселившись в своем дворце, светлейший князь Александр Данилович Меншиков велел прорубить в лесу просеку для проезда к берегу Финского залива. Первым помощником Петра в строительстве всех значительных зданий на острове стал архитектор Доменико Трезини.
Грандиозный замысел застройки острова, где Петр и его архитектор хотели создать Новый Амстердам, осуществлялся годами, но не был до конца реализован. Расчерченные по образцу тех, что в Голландии, и вырытые каналы, засыпали – они оказались не судоходными.
Прямые улицы, заменившие их, назвали «линиями», и каждой вместо названия дали номер. Более двадцати прямых линий пересекли три таких же прямых проспекта, идущих параллельно набережной Невы: Большой проспект (бывшая просека) – Малый и Средний.
Так постепенно образовалась своего рода маленькая городская провинция, где долго сохранялись домики с мезонинами, принадлежавшие немцам – аптекарям, кондитерам, мелким ремесленникам и торговцам. Помните как у Пушкина:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.
Доменико Трезини спроектировал здесь большой крытый рынок – гостиный двор.
Со временем, уже в XIX веке, старые строения на острове потеснили постройки в стиле ампир, а позже и доходные дома, где жила университетская и академическая профессура.
Бывшая провинция превратилась в научный и культурный центр. Университет, Академия наук, Академия художеств и Горный институт, позднее – Институт русской литературы – «Пушкинский дом» сформировали особый характер населения: студенты, ученые, художники, музыканты селились здесь или проводили на острове большую часть жизни. У солидных хозяев снимали комнаты первые курсистки. В квартирах дешевле, и в так называемых меблированных комнатах – на студенческом жаргоне «меблирашках» – собирались члены первых революционных кружков.
Вокруг Академии художеств тоже сложился свой ареал: здесь находился Литейный двор, где отливали в металле гипсовые скульптуры, размещались квартиры преподавателей. В мансардах соседних домов образовались художественные мастерские. Рядом с ними служащие при Академии сдавали будущим художникам комнаты и углы с пансионом.
Вспоминая о том, как, тихонько разговаривая, двигались мы с мамой к цели нашего путешествия, я понимаю, что это были самые первые доступные мне уроки наглядной истории России и старого Петербурга. Рассматривая здания, я понимала, как строился город.
Для мамы, не зараженной новым пролетарским сознанием, русское прошлое было, как у Карамзина, историей царствований. Поэтому фигуры Петра и Екатерины, Александра и Николая, как великие тени, следовали за нами в разговорах. Так узнавала я, когда они жили и правили, где воевали.
Как только трамвай выползал из улиц нашей, материковой части города и приближался к Неве, мы любовались корабликом на шпиле Адмиралтейства, скульптурами на крышах Зимнего дворца, величием Александрийского столпа.
И дух захватывало на Дворцовом мосту, когда взору открывалась Нева, с ее другими мостами, с далеким видом на гавань. Там на фоне неба чернели гравюрные очертания корабельных мачт и труб маленьких пароходиков.
Трамвай поворачивал на Университетскую набережную, и можно было совсем близко рассматривать все знаменитые постройки времен Петра и его продолжателей. Прекрасными казались затейливые линии карнизов, белых наличников и пилястр на цветных фасадах зданий, фигурные башенки и прочие украшения.
Мне странно бывает слышать о том, что Петербург – якобы город мрачный, серый и вечно пасмурный. Детская память сохранила яркие краски Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, дворца Меншикова. Тут чередовались цвета фасадов: ярко-голубой, темно-красный, светло-серый и желтый. На другом берегу желтели Адмиралтейство, Сенат и Синод, а между ними красовался «Медный всадник» – таинственный и грозный царь Петр Великий. О нем я не раз расспрашивала маму.
Рассказы о Медном всаднике и о страшных петербургских наводнениях волновали меня особенно. В книжном шкафу стояла пушкинская поэма с иллюстрациями Александра Бенуа. А наводнение – не то, старинное, о котором писал Пушкин, а недавнее, случившееся в год моего рождения, 1924-й, мама помнила хорошо. И я, глядя на набережную, пыталась себе представить, как тротуары и мостовые заливала вода и жители Васильевского острова, спасаясь от прибывающей воды, плавали на лодках или забирались на крыши трамваев.
Скорее всего, мама выбирала только хорошую погоду для наших поездок, и потому все вокруг сияло на солнце: Нева, гранит набережной, стоящие на ней дома. Но что касается цвета ленинградской архитектуры – он ведь характерен не только для зданий барокко, раннего классицизма и ампира. И на нашем Загородном проспекте фасады доходных домов, за исключением тех, что облицованы серым камнем, все были окрашены. Гамма варьировалась от серого и коричневого до темно-желтого и цвета бордо. Примерно то же отличало и внутренние кварталы Васильевского острова.
На Среднем проспекте, где жила няня, тоже стояли доходные дома, где жили скромные служащие, пожилые дамы из старых семей василеостровских горожан. После революции здесь образовались коммунальные квартиры, густонаселенные, но тщательно ухоженные. В одной из таких няня вместе с Нютой занимали большую, светлую комнату. Здесь и проходили наши скромные, но особенно вкусные чаепития.
Теперь рассказывала больше я, чем няня. Мне так хотелось, чтобы, живя вдали от нас, она чувствовала себя близкой и знала обо всем, что происходит в семье, чем я без нее занимаюсь. Когда я печалилась, расставаясь с ней, никто не утешал меня обманом, будто она скоро вернется. Для родителей ее отъезд тоже был утратой, а пребывание няни в доме считалось своего рода эпохой в семейной истории. И долго папа с мамой и другие члены семьи говорили при случае: «Это началось еще при няне». Или: «Это уже было без няни». Так что няня неслучайно заняла столь важное место в моем рассказе о родителях.
* * *
Супруги Ганкины были красивой, привлекательной парой. Родственники, друзья и знакомые тянулись в дом, где хозяева принимали радушно и открыто. Оба обладали приятной внешностью: миниатюрная мама с точеным профилем изящной головки и тяжелым узлом волнистых волос; солидный папа, среднего роста, с мягкими чертами лица, густыми, аккуратно подстриженными усами и прекрасными черными глазами. Она – немного стеснявшаяся своих элегантных нарядов и украшений, а он – денди, любитель крахмальных воротничков, оригинальных галстуков, дорогих часов с золотой цепочкой и хорошей парфюмерии.
Все эти признаки солидного достатка, даже некоторой роскоши, остались от благополучной поры папиного преуспевания в дореволюционные годы и в период НЭПа. Няня иногда еще называла папу старорежимным словом «барин».
Так выглядят мои молодые родители на фотографиях начала 1910-х годов. Почти такими же я их помню в моем раннем детстве.
В середине двадцатых им уже за тридцать. Обоим прибавилось полноты, и папа уже без усов (они в это время не в моде). По мере ощутимых столкновений с меняющейся социальной действительностью родители тоже менялись, приспосабливаясь к ней не только внешне. Переходили из среднего класса, так и не сформировавшегося в пролетарской ломке, в безликую прослойку служащих. На русский манер их звали Эмилией Ильиничной и Зиновием Зиновьевичем. Еврейские имена оставались в паспортах.
Они любили друг друга, хотя никогда не были вполне единомышленниками. Внутреннее несходство их характеров и мировоззрений порой приводило к противостоянию, даже к кратковременным размолвкам и разлукам. Но почти всегда расхождения счастливо преодолевались. За их долгую совместную жизнь не раз случались невзгоды. Зато еще больше ценились и объединяли радости. До золотой свадьбы они не дожили совсем немного.
Мама, с детства болезненная, обладала, однако, поистине могучей натурой. Ее душевная стойкость поддерживала отца, когда он терялся перед напором трудных обстоятельств. Но тяжелая гипертония сократила ей жизнь. Она ушла на несколько лет раньше мужа.
Их различное отношение к жизненным реалиям в значительной степени определялось разными условиями семейного воспитания. Мама родилась и выросла в Глухове, в бедной и многодетной религиозной семье Дорошевых. Там никогда не было достатка, но свято хранились нравственные устои. В детях воспитывали умение довольствоваться судьбой и больше всего ценить любовь друг к другу, взаимную поддержку и крепость семейных уз.
Семья Ганкиных жила в Кролевце, недалеко от Глухова. Дети – два сына и три дочери – довольно рано отделились от родителей и стали жить самостоятельно. Наш будущий папа был последним ребенком. Его мама была беременна, когда муж скончался. По еврейскому обычаю мальчик получил имя покойного отца – Залман.
Оба города, и Глухов, и Кролевец, были старинными, оба упоминаются в русских летописях XII века. Оба принадлежали Черниговской губернии и не входили в черту оседлости – ту границу, за пределами которой лица еврейского происхождения иудейского вероисповедания не имели права селиться. После первого раздела Польши в 1772 году все евреи на территории России приписывались к купеческому и мещанскому сословию и в нескольких губерниях, в том числе Черниговской, проживали законно.
В советских анкетах на вопрос о социальном происхождении мои родители так и писали: «из мещан». Была еще графа «социальное положение» – тут они считались «служащими», в отличие от рабочих. И даже я, почти через двести лет после действия старинного уложения о сословиях, при заполнении особых анкет для служебных поездок за границу, на вопрос о происхождении родителей тоже писала: «мещане».
В эту советскую пору подобное звание уже таило в себе некую двусмысленность, поскольку, начиная с эпохи всеобщего отрицания элементов прошлой культуры, слова «мещанин», «мещанка», «мещанский» означали вовсе не сословие, а нечто неуловимо пошлое, дурной вкус и тому подобное. Но историческое понятие о российском мещанстве для людей образованных оставалось выше презрительных характеристик.
Старые русские энциклопедии, которым можно, а то и нужно доверять едва ли не больше, чем новым, утверждают, что основным населением и Глухова, и Кролевца были великороссы (то есть русские), за ними следовал некоторый процент малороссов (то есть украинцев). Евреи составляли около двух процентов общего населения. Я заинтересовалась этими историческими подробностями, размышляя об условиях, в которых формировались характеры и жизненные цели моих родителей. Еврейское происхождение, хотели они того или нет, должно было определять их намерения и возможности.
В Кролевце русская часть жителей состояла из купцов и мещан. Хотя имелось несколько дворянских семейств и порядочное число служителей культа, главным образом православного. Существовало в городе кое-какое промышленное производство, преобладали небольшие заводы, в том числе – кирпичный завод, небольшие винокуренные, сахарные и пивоваренные заводы. В наших семейных преданиях вскользь упоминается участие дедушки Ганкина в руководстве неким заводским предприятием, потерпевшим впоследствии крах. Но я не знаю, как выглядел этот мой дедушка, какой у него был характер.
Возможно, небольшое сахарное производство дедушки не выдержало конкуренции. Однако он успел дать хорошее образование старшим детям. Одна из дочерей успешно окончила акушерские курсы, другая – фельдшерские. Третья дочь, очень болезненная, вышла замуж и занималась домашним хозяйством. Сыновья пошли по коммерческой части. Обладая этими профессиями, евреи могли селиться вне черты оседлости, в более крупных городах России.
Ко времени появления младшего сына Ганкиных все пятеро старших уже разъехались. Семейный бюджет полностью исчерпался. Бабушке пришлось растить новорожденного, принимая помощь родственников. И уже в отрочестве мальчик столкнулся с необходимостью самостоятельно выходить в люди. Он становился достаточно сильным и упрямым, стремление добиваться лучшего появилось у него в эти ранние годы и осталось навсегда. Тем, скорее всего, объясняется и его горячее желание вырваться из своего ограниченного сословного круга, ассимилироваться в русском обществе.
Мне не удалось выяснить что-нибудь конкретное об образовании, которое получил папа. Все рассказы мамы и бабушки о его детстве и юности обычно начинались с того, как его двенадцатилетнего отправили к старшей сестре в Старый Оскол. Там у супругов Анны и Авраама Рутенбергов была известная в городе аптека.
Учился ли он где-нибудь раньше? Его хорошее знание математики, изящный, бисерный каллиграфический почерк, идеальное русское правописание – все эти, восхищавшие меня способности не могли быть достигнуты без элементарного школьного обучения. Я попробовала реконструировать неизвестную часть биографии папы. В Кролевце, где прошло его детство, существовали гимназия и училища: Уездное, городское и приходское.
О русской гимназии еврейский мальчик не мог даже мечтать. Процентная норма для евреев и большая плата за обучение исключали такую возможность. При училищах существовали начальные четырехлетние классы, доступные для детей из малоимущих семей. Об окончании папой каких-то классов говорила мне моя сестра Надя. Однако сохранилась ранняя фотография мальчика Зямы Ганкина, по которой можно судить о том, что папа получил образование не в начальных классах при каком-то училище, а непосредственно в самом учебном заведении.
Вот он стоит, коротко остриженный, в форме, явно принадлежащей одному из кролевецких реальных училищ: тужурке, перепоясанной кожаным поясом с массивной металлической пряжкой. Правая рука опирается на фигурную тумбу фотографа, где лежит фуражка со знаками училища на кокарде. Можно, стало быть, предположить, что до отъезда в Старый Оскол он получил неплохое среднее образование. С этим скромным, но систематическим интеллектуальным багажом Зяма Ганкин начал свою первую службу: «мальчиком в аптеке».
Старый Оскол – уездный город Курской губернии – отличался от Кролевца прежде всего развитой промышленностью. К концу XIX века в нем насчитывалось семнадцать заводов и фабрик, процветало купечество. Существовала мелкая торговля, славились ремесленники. Среди них преуспевали мастера изготовления всяческих повозок – предметов весьма востребованных не в одной Курской, но и в других губерниях. Здесь украинцев почти не было, жили главным образом русские и совсем небольшой процент евреев.
Хотя в городе были земская больница и аптека при ней, частная аптека Рутенбергов пользовалась популярностью. Важные персоны города и просто состоятельные жители пользовались услугами ее хозяев, имевших хорошее медицинское образование. Перед глазами мальчика проходили люди разных сословий и общественных положений. Возможно, именно тогда у него зародилась мечта когда-нибудь войти в круг успешных деловых людей. Он был готов учиться всему, что могло помочь осуществить эту мечту в будущем. Уже тогда в его характере закладывались свойства человека, которого называют Sеlf Made Man.
Он долго и добросовестно выполнял всякого рода мелкие поручения: разносил богатым клиентам готовые заказы, убирал помещение аптеки, расставлял по местам полученные от поставщиков товары и посуду. И наступило время, когда его, уже юношу, обучили начаткам фармакологии и медицинской латыни. Он научился готовить несложные лекарства, вести бухгалтерию. Иногда хозяева уезжали за границу, и он со старшим помощником оставался на хозяйстве, стоял за прилавком, а дома опекал троих младших племянников. В этих условиях формировались главные черты его личности: абсолютная добросовестность, надежность, умение быть точным и исполнительным.
Однако молодой человек так и не полюбил аптечное дело. Было досадно, что эта служба отняла лучшие годы, в то время как его сверстники заканчивали гимназии. С учебой он опоздал, но важные деловые навыки приобрел.
Никто не удивился, что, возмужав, Залман оставил Старый Оскол, переехал в Киев, где жила его мать с другой дочерью и зятем. Вскоре он получил там место служащего в акционерной компании. В Киевской строительной конторе служил его старший брат Михаил. Он и рекомендовал туда младшего.
Мамино детство и юность складывались совсем иначе. В семье скромного учителя Элия Дорошева, державшего хедер – еврейскую школу для мальчиков – росли восемь детей. Всех требовалось одеть, обуть и накормить, да еще по возможности дать образование или обучить ремеслу.
Мне хотелось хотя бы в общих чертах представить себе жизнь этого незнакомого дедушки. Помогла «Книга жизни» великого еврейского историка Шимона Дубнова. Там я нашла строки, где он описывает родной ему Мстиславль. Этот город немногим отличался от Глухова по древности происхождения и по величине. Евреи селились и имели право жить в предместьях таких больших городов, пользуясь покровительством своей общины. И наиболее обеспеченными в ее среде, как правило, оказывались раввины. Весь прочий религиозный персонал жил бедно, а больше всех бедствовали такие, как дедушка – меламеды – школьные учителя. Некоторые рассказы моей мамы подтверждали эти описания.
Дедушку женили на дочери богатого человека. Считалось престижным породниться с ученым женихом, и отец невесты был готов понести расходы, чтобы устроить достойную жизнь молодой семье. Но от помощи тестя зять гордо отказался. Единственной собственностью, полученной в качестве приданого за невестой, стал отдельный домик с маленькими комнатками. В самой просторной из них стояла русская печь. Бабушка Шейна готовила в ней еду и пекла хлеб.
В рисунках Марка Шагала к его книге «Моя жизнь» вы найдете такую сценку, где мать художника, как он пишет, «сажала в печку хлеб на длинной лопате». Скорее всего, так было и в домике молодой четы Дорошевых. К этому более чем скромному интерьеру я, слушая мамины рассказы о детстве, всегда мысленно прибавляла большой стол, за который садилось восемь братьев и сестер. Сама бабушка, рассказывала мне мама, не ела, пока не насытятся ее дети. А дедушка так уставал за целый день в шумном обществе учеников, что любил ужинать в одиночестве. Он вообще отличался нелегким характером.
Мама всегда с любовью рассказывала о дедушке. Юность его прошла в «Ешиботе» – религиозном учебном заведении, где с утра до вечера читали и учили наизусть Тору и Талмуд. Там он приобрел ученость, но подорвал здоровье. Незаурядные способности и тяга к искусству позволили ему овладеть игрой на скрипке. Он хорошо рисовал. Но с годами все меньше прикасался и к инструменту, и к карандашу. Тяжелые головные боли сделали его мрачным и мнительным. Он рано обучил своего старшего сынишку поминальной молитве, но прожил долгую жизнь. А бабушка подчинила всю свою повседневность заботе о нем и о детях. В дружных многодетных семьях старшие всегда помогают родителям и опекают младших. Родители одинаково любят всех детей, но стараются в каждом выявить лучшие черты складывающихся личностей. Так было и в семье Дорошевых.
Дедушка рано заметил любознательность своей маленькой Михли – моей будущей мамы. Он разрешал ей ходить в хедер вместе с мальчиками и мечтал сделать из нее учительницу. Когда дочери исполнилось девять лет, он решил послать ее в русскую школу для девочек.
Глухов, можно сказать, славился своими образовательными учреждениями. Известный меценат Федор Терещенко не жалел средств на содержание Образцового городского училища. Наряду с этим работали три приходских училища, мужская гимназия, женская прогимназия и даже Учительский институт. Частная русская школа давала образование, близкое гимназии. Директор хорошо знал и уважал коллегу Дорошева и принял к себе его дочь. Помню рассказ мамы о школе, где учились девочки из состоятельных русских семей. Там она чувствовала себя чужой и, конечно, обрадовалась, когда пришлось уйти из школы, потому что оплатить обучение дедушка оказался не в состоянии.
Никто из детей Дорошевых не оставался без традиционного еврейского образования, но девочек к тому же обязательно обучали ремеслу. И маму, не теряя времени, отдали ученицей в швейную мастерскую, где работала старшая сестра. А дедушка, тем временем, искал новую возможность учить дочь русскому языку и гимназическим наукам. Он решил послать ее в Киев, где жил с семьей старший сын Исаак.
Не знаю, каким образом Исаак Дорошев приобрел в Киеве видное положение и соответственно право жительства. В «Пассаже» на одной из центральных улиц – Большой Васильковской – он держал ресторан. Маме было тринадцать лет, когда она появилась в семье брата. Было решено, что она будет дома проходить гимназический курс и готовиться к тому, чтобы экстерном закончить одну из киевских гимназий.
Для поступления в солидную женскую гимназию на общих основаниях надо было преодолеть процентную норму для евреев и платить за обучение. Не только за себя, а за еще одну русскую ученицу. Такой возможности даже у состоятельного брата не было. Чтобы не стать простой нахлебницей в доме старшего брата, мама взяла на себя ряд домашних обязанностей. Ранним утром она помогала дяде и тете по хозяйству и только потом погружалась в изучение гимназических предметов.
Я старательно вчитывалась в краткие мамины записки, оставленные нам с сестрой, чтобы понять ее чувства и умонастроения в этот киевский период. «Как ни красочен был Киев по сравнению с той глушью, из которой я приехала, – пишет она, – я мысленно уносилась в родное гнездо, с его скромной обстановкой, с его ежедневными заботами и мелкими интересами. Каждое письмо родителей вызывало у меня слезы и тоску, я чувствовала, что уехала надолго, навсегда…» Она еще не знала, что вернется домой с успехами в ученье и превозмогала тоску по родителям изо всех сил.
В Киеве существовали негласные правила, по которым экстерны получали уроки у отставных гимназических учителей и студентов. Они, большей частью, тоже были платными, так что приходилось искать энтузиастов, которые без денег помогали малоимущим ученикам. И такие действительно были.
За бесплатными уроками мама ходила пешком на другой конец Киева, потому что даже денег на трамвай не имела. Зато она могла часами, исполнив все домашние обязанности, сидеть в библиотеке, читать русских классиков, любимых поэтов. Молодежь тогда равно увлекалась Блоком и Брюсовым – так же, как Надсоном и Полонским.
Так прошли три года. Выпускной экзамен мама сдала с блеском, но красивый диплом в твердом переплете об окончании гимназии стоил сто тридцать два рубля. Опять – деньги, которых нет. Заменяющее диплом свидетельство выдавалось бесплатно. С ним тоже можно было поступать в Университет, о котором мечтала мама. Но сначала надо было вернуться в Глухов, чтобы заработать хотя бы немного денег.
Теперь она, недавно еще ученица, сама начинает преподавать. Дедушкина мечта почти осуществилась. Пока это уроки на дому или в хедере, а первые ученики – еврейские мальчики из хедера, которые хотят знать русский. Позже круг учеников расширится, мама организует кружки русской грамоты для рабочих, ремесленников и мелких служащих. Их она учит бесплатно.
Снова ее записки говорят о том, какое значение придавала молоденькая девушка своей работе. «Это время, – пишет она, – я вспоминаю как самое счастливое в своей жизни. Я стремилась к какой-то призрачной цели, я верила в жизнь, и вся она была впереди. Я бредила о пользе обществу, служении всему человечеству, вне этого жизнь казалась мне пустой».
Между учительством в Глухове и поступлением в Университет прошло еще несколько лет. Снова она жила в Киеве в семье брата. Мама готовилась к университетским экзаменам и готовила в гимназию племянника Яшу – сына дяди Исаака. Репетиторство не составляло для нее труда. Она продолжала много читать. Ее пристрастия в литературе очень характерны для определенного круга еврейской молодежи начала XX века. В особенности для тех молодых девушек, которые стремились к эмансипации. Они были бедны, трудились, иногда не по силам, и жаждали образования, равного с мужчинами.
Мама любила романы и повести Шеллера-Михайлова – защитника слабых и бедных, идеолога демократической нравственности. Примерно о таких же литературных вкусах упоминает Дубнов в «Книге жизни». Читая ее, я убеждалась в том, что мамина юность была типична для еврейской молодежи начала XX века, стремившейся к знанию и мечтавшей не только вырваться из узкого круга провинциальной жизни, но и служить каким-то передовым идеалам. Из таких юношей и девушек выходили нередко будущие революционеры. Но маму привлекали другие, прежде всего научные и благотворительные цели.
Можно себе представить тот пиетет, какой испытывала юная мама к храму науки. Огромное здание Киевского Университета, построенное в стиле позднего классицизма, выглядело очень солидно, но несколько мрачно. Могучие колонны, окрашенные в темно-красный цвет с черными деталями капителей и оснований, уже на подходе внушали хрупкой девушке священный трепет.
Помню, какое сильное впечатление произвел этот университет и на меня, когда я впервые приехала в Киев. Уж очень отличалось это тяжеловесное, даже несколько мрачное, строение от архитектуры знакомых университетов: легкого петровского барокко Двенадцати коллегий в Петербурге и светлого желто-белого ампира Московского университета на Моховой.
Основан был Киевский университет монархом с достаточно темной репутацией – Николаем I. Солидное учебное заведение считалось императорским и получило имя Святого Владимира. Красный и черный цвета повторяли цвета орденской ленты. «Польза, Честь и Слава» – девиз ордена Святого Владимира – стал девизом Университета.
Кроме философского факультета с отделениями истории и филологии, в университете существовали юридический и медицинский факультеты. Девиц на основные гуманитарные факультеты не принимали. Абитуриентов еврейского происхождения принимали только на медицинский факультет.
Но и в медицине существовали ограничения для евреев: специальности терапевта или хирурга девушки-еврейки получить не могли. Оставалась стоматология, и мама, не раздумывая, выбрала эту специальность. Она понимала, что осуществить дедушкину мечту и стать учительницей ей не удастся. Но во врачевании она видела не менее, а может быть, даже более важную миссию просвещения и благотворительности – тот идеал служения обществу, о котором она грезила.
Преодолев страх, головокружение и тошноту перед анатомическими таблицами, скелетами, заспиртованными зародышами и прочими учебными атрибутами медицинских дисциплин, она выдержала экзамены и приступила к занятиям. В это время наш будущий папа тоже приехал в Киев. Молодые люди познакомились в доме Исаака Дорошева, где жила и помогала по хозяйству в ресторане Рися Янкелевна Ганкина – папина мама.
Вместе с тетрадью с записками, отрывки из которых я цитировала выше, каким-то чудом в переездах из города в город, в суматохе революций и войн, сохранились еще две тетради с мамиными литературными опытами университетских лет. Ухаживая за мамой, папа переписывал своим каллиграфическим почерком ее сочинения: две повести из жизни еврейской молодежи.
Я прочитала оба эти незаконченные сочинения вскоре после маминой кончины. Содержание было настолько далеко от моих тогдашних интересов, что я, каюсь, не приняла их всерьез. Но меня необычайно тронули посвящения, любовно переписанные папиной рукой. На первых страницах каждой повести он с особенной гордостью выводил слова: «Другу моему, Зяме Ганкину». Молодая Михля наверное должна была привлекать энергичного молодого человека своей ранней независимостью и романтической настроенностью. И когда она окончила университет и получила диплом врача, он осмелился заговорить с ней о своем желании пройти дальнейший жизненный путь вместе.
Вот как выглядело заветное удостоверение, открывавшее перед мамой не только возможность врачебной практики, но и право жить в больших городах России и даже в столице:
«Диплом об окончании Дорошевой Михлей Эльевной, иудейского происхождения, факультета при Киевском Императорском Университете Святого Владимира.
Удостоена в день 4 апреля 1912 года звания зубного врача с правом и преимуществами, присвоенными этому званию».
Молодые люди вскоре обвенчались по еврейскому обряду и прожили в Киеве недолго. В конце ноября 1913 года у них родилась дочь, названная Надеждой. В начале 1914 года папа получил предложение от строительной конторы Братьев Аренштейн, где он уже успешно работал, выехать с семьей в качестве доверенного подрядчика в город Аккерман, на строительство железной дороги. По случаю рождения ребенка ему прибавили жалованье.
* * *
О жизни семьи в Аккермане мне известно мало. Вспоминаются разве что мамины рассказы о солнечной виноградной долине вокруг стройки и о теплых отношениях родителей с рабочими и их женами, о виноградарях, которые щедро угощали киевлян сочными плодами Юга.
Мама не сразу приспособилась к роли супруги большого начальника, которому все вокруг старались угодить. Слишком велика была разница между скудным детством и жизнью в Глухове, более чем скромным студенческим существованием в Киеве, массой обязанностей в семье брата, постоянной необходимостью заработков и нынешним положением хозяйки в собственном, пусть даже временном доме. Вспоминая тот период своей новой жизни, она говорила: «Мы были сыты…» – и это, кроме всего остального, характеризовало контраст настоящего с прошлым и остроту перемен.
В своих воспоминаниях железную дорогу и мама, и сестра называли «Аккерман-Лейпцигской», и я, надо сказать, никогда не задумывалась, почему именно так она называлась. Но когда я взялась за собственные рассказы о родителях, это название начало меня интриговать. Неужели дорога из Аккермана вела в Лейпциг? Железные дороги в то время строились крупными акционерными компаниями. Существовали концессии и другие способы эксплуатации различных путей сообщения между городами и странами. Прокладка же длинного пути из самой южной точки России в Лейпциг едва ли оказалась бы под силу частной киевской конторе. Так почему же дорога называлась «Аккерман-Лейпцигской»?
В поисках достоверных фактов о папиной деятельности я узнала немало интересного о самом Аккермане и о его далеких и близких окрестностях, где находилась еще до 1913–1914 гг. некая железнодорожная ветка.
Аккерман, один из стариннейших городов на юге России, возник как крепость греческой колонии еще в VI веке до нашей эры и назывался тогда Тир. В ходе многочисленных войн он часто переходил из рук в руки. В IX веке славяне отвоевали его у греков и назвали Белгородом. Потом он долго оставался под турками, в 1812 году вместе со всей Бессарабией перешел к России и назывался уже Аккерманом. Все шесть русско-турецких войн не обошли этот щедрый солнечный край стороной и длились с перерывами с 1730-х до 1870-х.
Вот тогда-то, в конце семидесятых, и построили для военных сообщений так называемую «Бендеро-Галацкую железнодорожную магистраль» длиной около 300 километров. Она соединяла Бессарабию, которой принадлежал Аккерман, с Румынией и выходила к Дунаю. Уже существовали тогда недалеко от Аккермана две станции на длинном пути – «Бессарабская» и «Лейпцигская». Так я впервые нашла около этого города железнодорожное название, связанное с именем «Лейпциг». Но откуда оно появилось – по-прежнему оставалось для меня загадкой.
Пришлось обратиться к истории Бессарабии. И я узнала, что плодородность земли вокруг Аккермана издавна привлекала в его дальние и ближние окрестности многих колонистов. Они приходили в Бессарабию из Польши и других западных областей в поисках работы и недорогого в этих теплых краях жилья. Разводили плодовые сады и виноградники, занимались виноделием.
Оказывается, очень рано, еще в XVI веке, пришли в Бессарабию евреи, и показали себя умелыми крестьянами, опровергая тем самым поздние необоснованные обывательские представления о том, что евреи умеют только торговать.
В ста верстах от Аккермана поселились в 1814-16-х годах немецкие колонисты из Витембергского (Вюртембергского?) королевства и герцогства Варшавского. Их колония так и называлась: «Лейпциг». Железнодорожную станцию, стоявшую близко к немецкой колонии, тогда назвали «Лейпцигская». Рядом с ней находилось большое еврейское поселение.
Теперь оставалось ответить только на один вопрос: куда вела железная дорога, которую строила контора братьев Аренштейн почти через сто лет после прибытия немцев-колонистов?
И почему она называлась «Аккерман-Лейпцигской»?
Ответ нашелся: дорога должна была соединить Аккерман с Одессой, куда раньше ходили только пароходы.
Именно в 1914 году, по утверждению историков, началась прокладка железной дороги «Аккерман-Одесса». Первым пунктом этого пути стала бывшая станция «Лейпцигская». Позже ее переименовали в «Бессарабскую». Но старое название «Лейпцигская», укоренившееся изустно, продолжало звучать вместе с этим новым.
Кто знает, как продолжалась бы жизнь моих родителей на строительстве так называемой Аккерман-Лейпцигской железной дороги, если бы не началась в августе 1914 года Первая мировая война.
Весь район Балкан из-за развернувшихся военных событий стал особенно беспокойным. Строительство на какое-то время прекратилось. Исторические документы утверждают, что прокладка ветки «Аккерман – Одесса» возобновилась только в 1916-м, и закончилась уже в 1917 году. Но папа еще раньше увез семью обратно в Киев.
В Киеве война не особенно ощущалась. Скорее всего, ко времени перед отъездом туда относится одна из немногих фотографий, сделанная в Аккермане фотографом фирмы Майстер.
Моя молодая мама, элегантно причесанная, в нарядном белом костюме сидит перед столиком с узором в стиле модерн. На нем уютно устроилась, свесив ножки в модных ботиночках, маленькая Надя. На девочке тоже белое нарядное платьице и кокетливый бантик в волосах. С фотографии смотрит вполне благополучная молодая дама с красивым здоровым ребенком.
Действительно, аккерманский период так и останется самым благополучным в жизни моих родителей. Про такие годы потом говорили: «в мирное время», хотя на пороге стояла война. С нее в истории и в каждой семье начинался другой отсчет событий.
В благословенном Аккермане папа, хотя и не стяжал славы строителя, но все же обеспечил семье добротное состояние.
Заработанных на строительстве денег оказалось достаточно, чтобы через некоторое время попробовать обосноваться в столице.
Там уже жила его старшая сестра Аня Берман – жена известного в городе адвоката. В Петрограде Берманы занимали верхнюю часть особняка на престижной Кирочной улице. Семейный дом был поставлен солидно, с большой жилой половиной, с изолированной приемной для посетителей, с горничной и кухаркой.
Недалеко, в районе Литейного проспекта, поселились и мои родители с маленькой Надей.
Выбор пал на Эртелев переулок № 3, между улицами Бассейной и Жуковского. Обе они выходят на ту часть Литейного проспекта, где жили когда-то Некрасов и Добролюбов, где находилась редакция Некрасовских «Отечественных записок».
Здесь доходные дома стояли тесно, улицы были короткими, перемежались с узкими переулками. В Эртелевом переулке помещалась – напротив квартиры, арендованной нашим папой, – редакция и типография газеты «Новое время».
Из окон одного ряда домов можно было наблюдать окна противоположного ряда. Почему-то именно эта подробность: грохот типографии и таинственный дом № 6, описанный впоследствии в воспоминаниях Георгия Иванова, где за стеклами пышного подъезда виднелась фигура величественного швейцара, запомнились маленькой девочке Наде больше всего.
Вероятно, папа в это время искал для себя службу. Точных сведений о том, чем он тогда занимался, у меня нет, однако в справочнике «Весь Петроград» за 1916 год он упоминается в числе деловых людей города как зубной техник.
В действительности папа таковым не был. Но мамин диплом зубного врача, имеющего право на практику в столичном городе, подтверждал право жительства в Петрограде для еврейской семьи и позволял доктору иметь помощника-техника. Видимо, ничего более определенного для того, чтобы быть отмеченным в справочнике, в то время папа еще не нашел.
Нет также в семейных анналах описания хоть каких-нибудь эпизодов февральской революции, которую родители пережили в Петрограде. Такое умолчание я могу объяснить лишь тем, что в годы, когда я или сестра спрашивали родителей о прошлом, официальный взгляд на историю советского государства и господствующая идеология не оставляли места для личностной оценки событий, пережитых вольными или невольными их участниками.
И я не знаю ни о настроениях моих родителей, ни о надеждах, какие они могли питать на общественные перемены в той революции, которую партийная советская история презрительно именовала буржуазной в противоположность октябрьскому перевороту, возвеличенному однажды и навсегда Сталиным до уровня Великой социалистической революции.
Мы, дети, родившиеся в начале 1920-х годов и привыкшие к сталинскому определению, долго не знали того, что сами большевики до 1927 года называли свою революцию «Октябрьским переворотом». В год ее десятилетия они даже распространяли среди участников октябрьских событий «Анкету участника Октябрьского переворота». Я уверена, что и родители долгое время так эту революцию называли. У них – прямых свидетелей всех событий – наверняка был свой взгляд на происходящее, и вполне возможно даже не общий, а у каждого свой.
Точно так же, например, мама, охотно говоря о своем детстве и юности, никогда не рассказывала мне о еврейских погромах эпохи революции 1905 года или начала 1918-го, когда погромы начались в Черниговской губернии и докатились до Глухова.
Между тем, уже в 1905–1907 годах она, вполне сознательный человек, будущая гимназистка, прогрессивно настроенная, должна была все видеть и понимать. Но тогда, вполне возможно, все страшное и болезненное заслонял от нее романтический настрой, юношеская вера в будущее, желание принести пользу обществу. А потом, уже в советское время, когда партийная пропаганда без конца вещала о жизни, что становится все лучше и веселее, – о погромах и вовсе вспоминать не хотелось.
Итак, февраль 1917 года родители пережили благополучно, все лето и начало осени провели в Петрограде. И все же, были причины оставить взбаламученный волнениями город. Незадолго до октябрьского переворота они переехали в Москву, где жизнь казалась папе проще и спокойнее. Но это только казалось.
Поначалу остановились на Большой Никитской. Там жили Аня и Авраам Рутенберги. Они давно оставили Старый Оскол и прекрасно устроились в Москве. Папа тоже начал хлопоты об устройстве. В один из вечеров они с мамой поехали к друзьям в район Таганки, оставив маленькую Надю у дяди с тетей.
Вот она на старой фотографии: хорошенькая четырехлетняя девочка, в теплом пальтишке с модной муфточкой. Головка укрыта большим плоеным капором, украшенным лентами. В то время у нее болело ухо, назавтра должен был прийти врач.
Еще не успели приготовиться ко сну, как началась стрельба. Стреляли со стороны Кремля, где шли бои между рабочими и солдатами, защитниками Советов, – и юнкерами, сторонниками временного правительства. Когда недалеко от дома грохнула пушка, спустились в подвал. И там Рутенберги с малышкой и соседями провели остаток ночи. Только к утру следующего дня появились взволнованные родители. Они пешком пробирались с Таганки в охваченный беспорядками центр Москвы. Ребенок встретил их радостным возгласом: «Старого мира убили солдаты!» – так по-детски девочка объяснила родителям, что означала ночная стрельба. Значило ли это, что взрослые тоже радовались новому миру? Я не уверена.
Эту историю, так же, как историю о внезапном решении мамы после вышеописанных событий отправиться с Надей в Киев, да еще с заездом в Глухов, я слышала не раз. Но до сих пор силюсь понять, как можно было пуститься в подобное путешествие в поездах, забитых солдатами и беженцами – ведь Россия еще воевала, да и результаты революционного переворота каждый день вносили свои жесткие поправки в повседневную жизнь и быт каждой семьи.
«Отрывочные воспоминания, – напишет уже на склоне лет Надя, – остались у меня об этой дороге с пересадками, о том, как при этом какие-то командиры передавали меня маме через окно».
Домик дедушки с бабушкой в Глухове пустел с каждым годом. Дети разъезжались. Покинул родителей старший сын Залман. Он уехал в Америку еще в годы так называемой третьей волны эмиграции евреев из России, в начале XX века.
Меер погиб на фронте Первой мировой войны. Исаак, как уже говорилось, жил в Киеве. Урий женился и уехал в Витебск. Цива вышла замуж за Владимира Каминира и тоже уехала. О судьбе Ханеты я не знаю ничего. Фейга-Лея умерла родами, оставив старикам дочку Симу. (Позже мои родители заберут ее в Москву и будут воспитывать вместе с Надей). Все трудней становилось стареньким дедушке и бабушке вести свое одинокое хозяйство в Глухове. Вполне возможно, что тот погром, о котором свидетельствует история, тоже не на шутку напугал их. Так или иначе, мама решила, что родителям пора переселиться поближе к старшему сыну. Из Глухова она двинулась в Киев, чтобы вместе с Исааком обсудить такую возможность.
В дружной киевской семье, в доме № 16 по Большой Васильковской улице, маму с маленькой дочкой встретили радушно. В городе оставалось еще много ее друзей. Всех хотелось повидать. Но Киев уже не был таким, как во времена ее отрочества и юности. Начало 1918 года в его истории отмечено беспорядками, сменой властей и армий, попеременно объявлявших себя защитниками растерянных граждан. У многих из нас, читателей «Белой гвардии» Булгакова, этот образ растерзанного Киева стоит перед глазами.
Каждую неделю в разных районах шли облавы, арестовывали всех, кого подозревали подчас неизвестно в чем. В одну из таких облав попала мама. Вызволять ее из «кутузки» пришлось за немалые деньги. Все говорило о том, что пора возвращаться в Москву.
* * *
Итак, Москва. 1918 год. Здесь история нашей семьи делает очередной и немаловажный виток. И снова мне не хватает фактов для ее полной реконструкции. Из отрывочных рассказов старших и коротких записок Нади, относящихся уже к 1980-м годам, известно, что еще до возвращения мамы из Киева папа был занят на ответственной государственной службе. По поручению Управляющего делами Совета Народных комиссаров Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича (об этом сохранился документ – мандат за ответственной подписью), он руководил строительством специального санпропускника на месте самых знаменитых в Москве Сандуновских бань.
В марте 1918 года, почти одновременно с переездом правительства из Петрограда в Москву (который тот же Бонч-Бруевич и организовывал), этот видный государственный деятель стал заместителем председателя врачебных коллегий. Совет Народных Комиссаров брал под контроль всю медицину в стране. Вместе с беспорядками, разрухой и голодом новой столице РСФСР и другим городам республики угрожал тиф. И строительство санитарного учреждения, способного профилактически препятствовать развитию эпидемии, имело стратегическое значение.
Несколько позже, в 1919 году был создан Комитет по сооружению санитарно-пропускных пунктов на всех московских вокзалах и одновременно появился Особый комитет по восстановлению водопровода и канализации Москвы. Всюду председательствовал и руководил Бонч-Бруевич. В эту систему мероприятий был вовлечен папа.
Не знаю, почему его, беспартийного молодого еврея, в сущности, еще не оперившегося москвича, удостоил своим вниманием и доверием партийный чиновник, стоящий у кормила власти, главное доверенное лицо Ленина, личность, отмеченная в истории советов весьма противоречивыми деяниями.
Известно, что Бонч-Бруевич, например, председательствовал в комитете по борьбе с еврейскими погромами, которые, начиная с 1918 года, с особой силой прокатились по городам и местечкам Украины и Белоруссии. Но он же был и одним из активных организаторов красного террора, жертвами которого становились, начиная с 1918 года, тысячи невинных людей. Конечно, папа не мог не знать, что собой представляет его работодатель. Но ответственная служба давала ему возможность на вполне законных основаниях укорениться в Москве. И он служил советской власти со всей добросовестностью и умением, какими обладал.
К концу 1918 года, когда из беспокойного Киева вернулись мама с маленькой Надей, папа успел купить небольшую, уютную квартиру в доме № 3 по Кривоарбатскому переулку. Этот красивый семиэтажный дом возвышается у самого выхода на Арбат до сих пор. Я его хорошо знаю, жила здесь в семье самых близких друзей моих родителей – Осипа Владимировича и Анны Исидоровны Коган в военные 1944–45-е годы. Но сведения о том, каким он был вскоре после окончания строительства, я почерпнула из воспоминаний их дочери Гесеньки Коган.
Построенное в благородном стиле позднего модерна по проекту знаменитого архитектора Э.Н. Нирнзее, импозантное здание доминировало в квартале, еще полном очаровательных старинных, типично московских одноэтажных особнячков. Это был гигант по сравнению с ними. Все детали внешнего украшения – строгие пропорции окон, декоративные карнизы и лепные гирлянды, перетекающие формы эркеров и чугунное кружево центрального балкона на седьмом этаже – отвечали типичному для стиля модерн внешнему облику и внутренней планировке. Расположение комнат привлекало той живописностью, которая отличала не обычные типовые квартиры доходных домов, а солидные особняки нового типа. Спальные комнаты, например, расходились веером от центральной большой и светлой гостиной. «Службы» прятались в коридорах. Дом оснащался самыми современными видами коммуникаций. Работали лифты и телефоны, паровое отопление и водопровод.
Наряду с новшествами здесь еще оставались приметы старого времени. Опытный дворник занимал просторную дворницкую. В швейцарской жил и всегда готов был услужить вальяжный швейцар, для которого жильцы все еще были господами, а не товарищами. Словом, это был маленький, каким-то чудом сохранившийся уголок того буржуазного мира, который еще не успел себя до конца проявить, поскольку очень скоро был обречен пролетарской революцией на гибель.
Предложенная папе квартира продавалась вместе со всей обстановкой, убранством и даже посудой. Хозяева в спешке покидали советскую Россию, уезжая за границу. Мои родители, напротив, начинали в ней свою новую оседлую жизнь.
Суровые революционные порядки не заставили себя долго ждать. Вскоре главным хозяином в доме стал так называемый «Домком» – то есть домашний комитет. Явление, безусловно, новое в социальной жизни Москвы. Оно, как и многие другие революционные новшества, сразу отразилось в языке. Вместе с разнообразной социальной ломкой, революция принесла с собой ломку русского языка, появился «новояз» – различные названия и аббревиатуры, новые и новейшие сокращенные названия общественных комитетов, государственных учреждений и прочих понятий, рожденных новой действительностью. Явление уникальное, впоследствии подробно исследованное Джорджем Оруэллом в его научных статьях и высмеянное им в антиутопиях, пародирующих жизнь Советской России.
Благополучное состояние большого дома продержалось недолго. Отопление перестало работать. В квартирах появились железные печурки «буржуйки» с дымовыми трубами в окнах. Никто не был застрахован от внезапных обысков или изъятия «излишков». Специальные комиссии изымали у жильцов лишние, по их мнению, продукты, а порой и мебель, и даже предметы одежды. К счастью, такого рода налеты происходили не регулярно. Иногда владельцы квартир даже успевали к ним подготовиться и что-то необходимое уберечь.
Читайте бессмертное «Собачье сердце» Булгакова или посмотрите замечательный кинофильм Владимира Бортко по мотивам этой повести, и вы получите полное представление о работе революционных домкомов, увидите типичный домком в лицах.
Трудное, тревожное время. Только что закончилась изнурительная мировая война, и в Москву потянулись демобилизованные солдаты, вместе с ними – инвалиды войны, люди, потерявшие кров и семьи. А впереди уже маячила новая война, гражданская.
Продовольственное положение становилось катастрофическим. Голод, болезни, бандитизм – свирепствовали. Разруха охватывала все новые области промышленности и хозяйства. Был ли военный коммунизм, введенный большевиками в эту пору в стране, единственной возможной мерой борьбы со всеми бедствиями – я судить не берусь. К тому же, как известно, история, то есть историческая наука, имеет такое странное качество: ее постоянно переписывают разные историки, ученые и не очень.
В чем выражался в действительности «военный коммунизм» – сказать сложно, поскольку набор государственных мероприятий колебался между жизненной логикой и абсурдом.
Вся промышленность национализировалась. Государство перешло на натуральные хозяйственные отношения с населением. Отменялись деньги. Уродливо осуществлялась революционная декларация всеобщего равенства, мечта пролетариата поровну поделить все, чем богата и так уже обескровленная войной страна, принимала кое-где неожиданно жестокие формы.
У рачительного хозяина в деревне или в городе отбиралось то, что было заработано тяжким трудом. Все должно было быть отдано новому распределителю благ – государству. Самые дикие размеры и формы приняла «продразверстка» – изъятие хлеба у крестьян.
Начались совершенно неконтролируемые, безнаказанные расстрелы людей, не согласных с пролетарской властью. Это уже был не коммунизм (даже с поправкой на то, что он военный), а откровенный бандитизм.
5 сентября 1918 года был издан один из самых антигуманных декретов советской власти: декрет «О красном терроре».
К этому времени террор уже свирепствовал. Большевистской верхушке казалось, что террор обеспечит порядок и лояльность к ней населения.
Ленин открыто предлагал беспощадное применение насилия, непечатным словом называл интеллигенцию, а Троцкий и Дзержинский исторически оправдывали организованный террор как демонстрацию силы и воли рабочего класса.
У этого чудовищного мероприятия есть статистика: после обнародования декрета расстреливалось в среднем по стране до пяти тысяч человек в день.
Наши семейные апокрифы не акцентируют эти мрачные стороны общей истории. Родители были молоды, энергичны, обрели свой красивый домашний очаг и стремились вписаться в новые социальные условия, не теряя своих понятий и представлений о достойном образе жизни.
Кроме того, им помогала неожиданно возникшая дружба с семьей соседей. Я упоминала эту семью, говоря о совместных поездках на Черное море в конце двадцатых. Теперь пора подробнее рассказать о Коганах.
Ганкины и Коганы познакомились зимой 1919 года, убирая снег на Арбате. Сначала подружились дети и жены, потом мужья. И эта дружба связала всех надолго.
Семья Коганов приехала в Москву в 1914 году из Новозыбкова. До того, как стать уездным городом Черниговской губернии в начале XIX века, он был одним из центров русского старообрядчества. В середине века стал крупным центром торговли и ремесел, прославился своими спичечными фабриками. Здесь Осип Владимирович Коган открыл небольшое лесное дело.
К этому времени он приобрел некоторый капитал, заработанный в управлении нефтяных промыслов в Баку. Но, как многих самостоятельных деловых людей из провинции, его вскоре потянуло в Москву. Там он надеялся применить уже имевшийся у него опыт предпринимателя, дать хорошее образование детям и создать добротный дом для обожаемой красавицы жены.
Политикой не интересовался. Его жена, Анна Исидоровна, в девичестве Анюточка Равикович, после окончания гимназии училась в Киеве на Высших женских курсах. Молодой энергичный супруг увез ее в Новозыбков, а вскоре и в Москву. Там она целиком посвятила себя двум детям и устройству новой квартиры в доме № 3 по Кривоарбатскому переулку.
В 1919 году, когда Ганкины здесь еще новички, Коганы уже старожилы. Поразительно, что война и обе революции не помешали Осипу Когану в 1916 и 1917 годах вывозить семью в Крым, в Евпаторию и в Кисловодск. А там еще, как прежде, функционировали курортные лечебные заведения и частные пансионы. Пока шла война, состоятельная публика проводила время в удовольствиях и с пользой для здоровья.
Коганы вернулись в Москву после «бархатного сезона», перед самым октябрьским переворотом, благополучно пережили дни перестрелки на Арбате, которая многократно описана в русской литературе того и позднего времени. Пережили и все последующие перемены в городе и в доме.
Зима 1919 года выдалась особенно снежной, и все неработающее население Москвы обязали убирать снег. Жители дома в Кривоарбатском сгребали его с тротуаров и мостовой и сбрасывали в огромный чан, под которым горел костер. Две элегантные молодые женщины – Анна Исидоровна Коган и Эмилия Ильинична Ганкина, одетые в дорогие котиковые шубки, в некоторой нерешительности стояли посреди двора, а их дети лопатками набрасывали снег в ящик, укрепленный на салазках, и возили его к чану. Это были моя робкая шестилетняя сестра Наденька, высокий худой мальчик лет восьми – Даня Коган и его сестра – шустрая золотоволосая ровесница Нади – Агнесса, по-домашнему – Гесенька. Из ее воспоминаний, в дополнение к Надиным запискам, можно узнать о многом в жизни обеих семей в московский период. К счастью, они избежали всеобщей трудовой повинности, введенной в стране вместе с законом о военном коммунизме. То было по сути своей настоящее крепостное право для большой части населения.
Всеобщее положение о принудительном труде для неработающих вводилось Декретом Совета народных комиссаров от 5 октября 1918 года. С этого времени единственным документом, удостоверяющим личность гражданина РСФСР, считалась трудовая книжка. Паспорта отменялись.
Нашего папу хранил от всех посягательств мандат Бонч-Бруевича. Осипу Владимировичу было труднее, его в какой-то недобрый час едва не расстреляли в Костроме, куда он отправился по делам своей службы. Признали поначалу буржуем, но вовремя разобрались и отпустили.
Как бывает, когда творится большая история с ее закономерностями, во всеобщей суматохе начинает действовать и закон случайностей. Сотни и тысячи частных жизней вопреки общим правилам существуют и развиваются в своих направлениях, внутри главного направления развития государства. Так было и с нашими родителями.
К началу 1920 года обе семьи, уже связанные крепкой дружбой, наладили более или менее прочный быт. Мужья работали и могли обеспечить женам и детям достаточно спокойную жизнь. Родители начали выполнять свою программу образования детей.
Эту задачу они считали для себя одной из главных. Однако решить ее оказалось совсем нелегко. Начальная и средняя школа – этот фундамент образования – как и другие области общественной и гражданской жизни не избежали разрухи.
России издавна не везло с просвещением и образованием населения. Грамотность многие века была уделом привилегированных сословий. Вспоминая о значении деятельности великого просветителя Новикова, историк Ключевский писал: «В древней Руси читали немногое и немногие». Новгородские берестяные грамоты XIII века с азбуками и школьными упражнениями – редкое исключение в массе неграмотности отроков других городов России.
Лишь в начале XVII века появился один из первых русских букварей. И он свидетельствовал о том, что главной в системе образования народа были духовные училища, а не светская школа.
Карамзин считал, что русское духовенство было гораздо просвещеннее мирян. И только просветительские реформы Петра Первого способствовали развитию наук светских. Да и то, не для детей, а для юношества.
Екатерина Вторая очень хотела быть великой просветительницей. Но ее образовательные и воспитательные щедроты распространялись главным образом на избранный класс. А народные библиотеки и журналы для читающих детей разных сословий создавал Николай Иванович Новиков, вскоре Екатериной же погубленный. Его опыт развития не получил.
Нечего и говорить о системе образования пушкинского времени, когда Царскосельский лицей оставался единственным очагом светлой педагогической мысли для небольшого круга талантливых юношей-дворян. Но ведь и он постоянно стоял перед угрозой закрытия и смены прогрессивных преподавателей на ретроградов. В массе своей мальчики из дворян учились дома или в кадетских корпусах. Девочки столичной знати – в Институте благородных девиц или у себя дома.
Дети других сословий – в воскресных школах или духовных училищах. Начальная и средняя школы долго оставались слабым местом в системе обучения. Исторические источники XIX века содержат множество сообщений о разнообразнейших уставах учебных заведений и положениях Министерств, ведающих в разные годы народным просвещением и средним образованием. Уставы и положения часто оставались на бумаге, а школы жили сами по себе.
Вместе со старыми церковно-приходскими школами действовали уездные, реальные, коммерческие училища, наконец, гимназии разных категорий. В конце XIX века открылись немногие народные школы, организованные, в пику официальной консервативной педагогике, деятелями демократического направления в просвещении.
До начала XX столетия основными оставались два негативных признака российской образовательной системы: сословные и национальные ограничения с процентной нормой для инородцев и раздельное обучение девочек и мальчиков.
Правда, век гимназий принес свои добрые плоды: классические гимназии дали полноценное образование нескольким поколениям будущих студентов университетов. Но и этот просвещенный век ничего не изменил для детей неимущих или для евреев.
Февральская революция 1917 года не провела коренной реформы школы, хотя уже был организован, пусть ненадолго, Государственный комитет по народному образованию. Была даже выработана новая орфография и упразднен обязательный во всех гимназиях и училищах предмет «Закон Божий».
Однако все старые типы школ, в том числе и церковно-приходские, продолжали работать. Да и как скоро могла реформироваться старая школа, когда с августа 1914 года миллионы детей скитались по стране, а война, голод и болезни порождали целые армии сирот?
Семь миллионов детей кочевали в ящиках под товарными вагонами и умирали на вокзалах, потому что в наспех созданных детских домах и приютах не хватало мест. Многие беспризорные дети боялись дисциплины и установленных в приютах порядков. Эти попросту подавались в бега. После октября 1917 года большевики создали Комиссариат народного образования под руководством народного комиссара Луначарского. Он сразу объявил первой целью революции борьбу против безграмотности и невежества, ввел в стране всеобщее обязательное бесплатное обучение.
Было создано Положение о единой трудовой школе. Однако долгое время оно существовало лишь в воображении народного комиссара. Страна была слишком велика для того, чтобы изложенные на бумаге усовершенствования вошли в постоянную практику общественной жизни.
Семья, в которой родители хотели дать детям образование, соответствующее, например, бывшим начальным классам гимназий или общеобразовательных школ, на первых порах сталкивалась с неразберихой в отборе учеников и программ обучения.
Как это порой выглядело на практике – описала в своих воспоминаниях Агнесса Коган. Выразительный отрывок из них относится к осени 1919 года. Место действия – Москва, один из переулков близ Арбата.
«Помню, как мама повела нас обоих посмотреть, где Даня будет учиться. Здание бывшей гимназии в нашем переулке еще не было освобождено – там, в годы войны был расположен госпиталь. Школу разместили в двухэтажном доме в Никольском переулке.
Мы поднялись на второй этаж и увидели большую комнату, обставленную старыми исковерканными партами, по которым скакала ватага мальчишек разного возраста – маленьких и больших.
По Указу об обязательном начальном образовании в школу пришли и переростки 10 и 11 лет, ранее не учившиеся. Мама пришла в ужас. Она быстро увела нас домой, вошла в столовую и, сев к столу, заплакала. Из кабинета вышел папа, и после совещания они решили, что Даня в школу не пойдет, а заниматься будет дома.
Не нужно обладать богатым воображением, чтобы представить себе описанную выше картину и понять, что должна была испытать бывшая гимназистка Анюта Равикович, глядя на обстановку полного крушения традиций.
Решение предпочесть домашнее образование всеобщему государственному бесплатному обучению стало общим для семей Коганов и Ганкиных. Есть в воспоминаниях обеих героинь этого сюжета – Нади и Агнессы – много интересных для сегодняшнего читателя подробностей. В них присутствуют, кроме всего, и рассказы о судьбах домашних учителей и учительниц сложного периода советской истории, которому вполне подошло бы определение «безвременья».
С одной стороны – новая еще не вставшая на ноги школа. С другой – старый добрый домашний распорядок и неизменные прогулками с няней. ( Они описаны с особенной нежностью. И в них – примерно такое же отношение детей к Москве, как у мальчика Мандельштама – к Петербургу).
Другом обеих семей, и детей в особенности, очень скоро стала француженка из Парижа. «Мадам» носила фамилию Королева. Она давно осела в России, работала гувернанткой, вышла замуж за скрипача Большого театра. Плохо владея русским, веселая и обаятельная, она быстро обучила детей французскому языку, началам французской литературы и даже географии любимой ею Франции.
Молодая преподавательница естественных наук обучала по системе знаменитого немецкого педагога Фридриха Фребеля. Она считала необходимым воспитывать детей в свободном общении с природой и приходила к Наденьке с живым петухом. Он должен был иллюстрировать особенности строения птиц и некоторые общие признаки дикой и домашней фауны. Надя, действительно, с детства не боялась ни мышей, ни лягушек, чем вызывала у меня, маленькой, одновременно и зависть к смелости старшей сестры, и страх перед этими отвратительными – с моей точки зрения – тварями.
Симпатичная Ольга Александровна обучала всем общеобразовательным предметам. Для создания иллюзии школы родители купили Наде новенькую школьную парту. Сохранилась ее фотография – нарядная девочка с бантом в волосах сидит за партой в собственной детской. Этот снимок – свидетельство того, что начало систематических занятий школьными предметами считалось в семье праздничным событием.
Отдельно преподавались музыка и рисование. У Ганкиных часто бывал молодой художник Ниссон Шифрин, кузен нашего папы. Его творческое мировоззрение формировалось тогда в гуще самых современных художественных течений. Он примыкал к новейшим экспериментальным движениям в живописи. Его уроки Наде не прошли даром: она стала архитектором и прошла в 1930-х годах авангардную школу конструктивизма у видного представителя этого направления в советской архитектуре Ноя Абрамовича Троцкого.
Уроки музыки оказались началом музыкальной профессии для Агнессы и Симы. Племянница мамы, сирота Сима, жила в нашей семье и училась всему, что проходили девочки. И, наконец, недолгим, но все же значительным эпизодом оказалось пребывание старого ребе в семье Коганов, где пытались обучать Агнессу древнееврейскому языку. Но это начало не имело успеха и продолжения. Тем не менее общий итог – главные навыки прилежания и систематического продвижения по разным путям знаний и умений дети приобрели тогда на всю жизнь.
Общим образованием дело не заканчивалось. Агнесса, Надя и Даня занимались в «Институте ритмики и пластики». Он помещался в красивом старинном особняке во Власьевском переулке. Обучали там по системе Айседоры Дункан, и ученики даже выступали в театре на Тверской улице.
Не оставалось в стороне и изобразительное искусство. Обе мамы водили детей в Румянцевский музей, в особняки Щукина и Морозова. В Кустарном музее, что в Леонтьевском переулке, можно было не только увидеть коллекции, но и купить произведения мастерских Абрамцева и изделий из Талашкино. И лучшие из таких вещей украшали интерьер в обеих квартирах на Кривоарбатском.
А театры… Пьеса «Синяя птица» лауреата Нобелевской премии Метерлинка к тому времени давно покорила сердца целого поколения детей, родившихся в Европе в первые годы нового века. В России она прославилась в знаменитой постановке Московского Художественного театра, а для детей Коганов и Ганкиных стала первой азбукой – началом начал – в прикосновении к театральному искусству вообще. Затем следовали первые знаменитые постановки бессмертной «Принцессы Турандот» у Вахтангова. На них ходили не по одному разу. В Малом театре смотрели «Недоросль» по Фонвизину, в Большом – слушали «Садко». Глядя на этот перечень, возможно, даже неполный, видишь, что родители выбирали спектакли не случайно. Это тоже была программа воспитания искусством. И все это – в неспокойное трудное время, полное революционных нововведений и общественных передряг.
Летом обе семьи встречал весьма далекий от революции мир. Читая воспоминания, написанные Надей и Агнессой в 90-х годах ушедшего XX века, нельзя не подивиться их ностальгической восторженности.
Эти записки воскрешают атмосферу покоя и тихих радостей деревенской жизни, царившей тогда совсем недалеко от революционной столицы, в Шукино, на берегу Москвы-реки. В этот живописный уголок, который каким-то чудом еще не затронули ни жестокие грабежи, ни репрессии, семьи ехали вместе, по старинке: на лошадях, несколькими подводами, со всеми предметами, необходимыми для летнего быта.
А там, в деревне, тоже, как прежде, стояли добротные дома с прохладными сараями и сеновалами, паслись стада молочных коров. Там небольшой общиной косили, жали и молотили хлеб. Немногочисленные дачники еще пользовались услугами городской торговли. С удивлением читаешь в их воспоминаниях о том, как по утрам в деревню приходил продавец от Елисеева с огромным подносом, полным солений и копчений. Дачники охотно покупали знаменитую в Москве снедь. Такие вот парадоксы времени.
В старом парке, у заросшего пруда стоял еще не тронутый разграблением поместный дом князей Шаховских, покинувших советскую Россию. Жив был и старик дворецкий. Он свято хранил порядок в барских комнатах, отпирал старыми ключами тяжелые двери дома и пускал детей посмотреть, как жили его хозяева.
Читаешь эти воспоминания, и не можешь понять, как сохранился этот оазис среди пустыни разрухи. Но разве можно не верить тому, что написано рукой живого участника этой сказочной, странно законсервированной прежней жизни?
В советскую «Единую трудовую школу» московской осенью дети могли идти вполне образованными. Три незабываемых лета, о которых рассказано в воспоминаниях, относятся, скорее всего, к промежутку между 1921-м и 1923-м годами. Это время, уже более благополучное, чем первые революционные годы, примыкает к началу НЭПа – Новой экономической политики, введенной ленинским правительством в совершенно истощенной стране, вконец разрушенной войнами и переворотами.
О НЭПе давно и много написано. Уникальная эпоха отражена в литературе, почти во всех видах искусств. Особенности времени явлены, что называется, в лицах. Но НЭП – это не только показанные нам в кинофильмах шикарные рестораны, ночные клубы и казино. Не одни лишь разбогатевшие господинчики и дамочки в дорогих мехах. Заграничные автомобили и ананасы с шампанским.
После перехода от принуждения эпохи военного коммунизма страна перешла к материальному стимулированию населения. Появились деньги. Поощрялась частная инициатива, разрешалась частная промышленность и частная торговля. Вместо прежних государственных управлений возникли тресты, независимые от государства. Они действовали на основе коммерческого расчета и имели право получать и делить прибыль между рабочими и служащими. Они должны были только добросовестно платить налоги государству.
В одном из таких новообразованных трестов начали служить папа и Осип Владимирович Коган. А дома с улыбкой говорили, что они служат у Шоколадного короля. Так НЭП стал для наших семей в некотором роде эпохой делового возрождения.
Рассказ о Шоколадном короле я услышала от мамы в Ленинграде, когда НЭП уже кончился. Мы с ней вместе убирали квартиру. Няни и Нюты с нами уже не было, и я охотно помогала маме. В такие дни она, бывало, рассказывала мне о своем детстве и о многих семейных событиях, происшедших до моего рождения. На этот раз мы убирали в коридоре, где стоял красивый высокий светло-коричневый сундук с блестящими металлическими замками, обтянутый декоративными обручами из гибкого светлого дерева. Совсем непохожий на другие чемоданы, он уже давно занимал мое воображение. В этот раз, когда мы вытирали с него пыль, мне особенно захотелось посмотреть, что там хранится, и мама согласилась открыть.
Красивые латунные замки звонко щелкнули. В сундуке оказалось несколько легких ящиков, декорированных светло серым муаровым шелком. У каждого на торцах широкие петли для того, чтобы ящики легко вынимались из сундука. Особая нарядность, принадлежащая прежнему, незнакомому мне миру, сразу бросилась в глаза. Мы начали аккуратно, взявшись за петли, один за другим вынимать ящики. В первом лежали большие льняные скатерти, салфетки, во втором – какие-то красивые блузки, кружевные воротники, которые мама не носила, в третьем – свадебное родительское серебро в красивой коробке, обтянутой внутри красным бархатом. И в самом нижнем ящике, на дне сундука, я увидела нечто вовсе чудесное. Там лежали даже не покрывшиеся патиной времени самые разнообразные шоколадные изделия. Огромные шоколадные яйца, круглые «бомбы», птички, плитки шоколада в красивых обертках, коробки конфет и прочие кондитерские прелести.
Это были образцы, которые служащие фирмы «Жорж Борман» – то есть папа с Осипом Владимировичем – предлагали для закупки торговым фирмам и магазинам российских городов.
Мама рассказала мне тогда о папиной работе, о ее счастливом начале и о том, как она завершилась. Фигура Шоколадного короля приобрела вполне реальные очертания. Одна из стариннейших кондитерских фирм – «Жорж Борман» еще в 1876 году – в царствование Александра II, получила в России почетное звание «Поставщика Двора Его Императорского Величества», с предоставлением права изображать государственный герб на этикетках своих товаров.
Борманы – обрусевшие французы, укоренились в Петербурге. Георгий Григорьевич (Жорж) Борман бисквитному делу обучался в Европе. Он получил звание почетного гражданина Санкт-Петербурга, был директором кондитерского товарищества «Жорж Борман». Помещалось оно на Английском проспекте №16. На Всемирной выставке 1878 года в Париже фирму «Жорж Борман» наградили за ее изделия золотой медалью.
А путь к славе начался за полтора десятка лет до этого события, когда отец Жоржа, Григорий Николаевич, основал в Санкт-Петербурге частную кондитерскую фабрику. Она была преобразована в товарищество в период широкого развития акционерных обществ в России. Дело постепенно расширялось, построили еще две кондитерские фабрики в Харькове и открыли там несколько кондитерских магазинов. Появилась кондитерская фабрика в Москве. К началу 1917 года в Петрограде работали восемь кондитерских магазинов «Жорж Борман».
О хозяине предприятия, основателе разветвленной кондитерской империи, заговорили как о первом отечественном шоколаднике, Шоколадном короле. Обертки для шоколада, этикетки с изображением фруктов, цветов, сюжетов детских сказок и басен Крылова, и даже с портретами мировых и российских знаменитостей, изготовлялись на лучших сортах бумаги и картона в лучших литографских мастерских. Ящики нашего домашнего сундука сохранили лишь малую часть.
Стилистика этих цветных рисунков вполне отражала характер современной им массовой графической продукции конца XIX начала XX века: театральной и киноафиши, почтовой открытки, товарной рекламы. Популярные народные мотивы мирно соседствовали с витиеватыми орнаментами и сюжетами стиля модерн. Здесь встречалось и немало китча, кое в чем была большая доля сусальности, но для рекламы сладкой продукции это казалось вполне уместным. Все годилось для популяризации товара и привлечения покупателя.
Несмотря на заслуженную популярность и могущество фирмы, революция и гражданская война сильно разрушили знаменитое кондитерское производство. Оно начало восстанавливаться постепенно, в период НЭПа. Тогда понадобились специалисты во многих областях деятельности бывшего товарищества. Не только опытные инженеры, организаторы, рабочие фабрик, финансисты, но и распространители продукции – теперь уже треста, объединившего по примеру других трестов все предприятия и учреждения старинной фирмы.
Так был создан Харьковский кондитерский трест, в котором начали служить молодые предприниматели и компаньоны Коган и Ганкин. Как представители фирмы они ездили в разные города России. В одних делались закупки сырья, в других – заключались договоры на реализацию продукции. Служба была успешной и очень хорошо оплачивалась. Она продолжалась без помех до 1927 года.
Именно тогда в одной из московских газет появилась статья о том, что, якобы в отличие честных тружеников, живущих на зарплату, Коган и Ганкин зарабатывают огромные деньги. Сигнал не остался без последствий. Революционная машина наказаний работала бесперебойно. Осипа Владимировича и папу арестовали в поезде, когда они направлялись в свой трест в Харьков. Уже тогда практиковалась такая методика арестов.
Поначалу никто не беспокоился об уехавших родных: ведь почти вся их работа проходила в поездках. Но что-то тревожное как будто носилось в воздухе. Ведь время было такое, когда люди могли вообще пропасть в одночасье. И можно себе представить, как разволновались жены, получив известие о том, что мужья арестованы и находятся в харьковской тюрьме под названием «Холодная гора».
Мама из Ленинграда, Анна Исидоровна из Москвы срочно выехали в Харьков. Опытные адвокаты быстро доказали невиновность обоих коммерсантов, и все благополучно разъехались по домам.
Тут, наконец, надо рассказать о том, как и почему Ганкины переехали в Ленинград, хотя в Москве у них уже была большая пятикомнатная квартира с тем самым центральным балконом, который украшал главный фасад дома в Кривоарбатском переулке.
Хотя папа и Осип Владимирович довольно быстро оказались на свободе, история с газетной статьей и арестом недвусмысленно напоминала о конце НЭПа и всего благополучия нашей семьи. Собственно говоря, признаки вмешательства в устоявшееся как будто существование появились гораздо раньше описанных событий.
Осенью 1923 года, поздно вечером, как свидетельствуют воспоминания и Агнессы и Нади, во входную дверь большой квартиры Ганкиных позвонил человек в морской тельняшке и кожаной тужурке и молча предъявил ордер на одну из пяти комнат в квартире 28.
Поздние рассказы не без юмора утверждали даже, что у обладателя тужурки имелся револьвер. Папа не пригласил незваного гостя пройти внутрь квартиры. Сославшись на то, что вечер уже слишком поздний для разговоров, он предложил моряку прийти завтра утром. А сам привычно собрал кое-какие необходимые ему вещи и отправился на Николаевский вокзал.
Там сел в курьерский поезд, направлявшийся в Петроград, а наутро, как только прибыл, отправился на Кирочную улицу к своей старшей сестре Ане Берман и рассказал, что случилось.
Брат и сестра размышляли недолго и решили купить квартиру в Петрограде, чтобы затем перевезти туда семью. В это время Ганкины ожидали рождения второго ребенка. Папа мечтал о наследнике, страстно желал мальчика. Но растить и воспитывать дитя в коммунальной квартире – об этом он и думать не хотел.
* * *
Жизнь в Петрограде надо было начинать почти заново, но это не особенно пугало папу. В городе, который многие оставили в пору беспорядков и трудностей, связанных с войной и революцией, пустовало много квартир. Папу уже не привлекал тесный район переулков около Литейного проспекта, где в 1916 году жила семья. Короткое пребывание в доме в Эртелевом переулке не оставило по себе хороших воспоминаний. К тому же муж тети Ани, известный в городе адвокат Берман, хорошо знал сложившуюся после октябрьского переворота демографическую и экономическую ситуацию и мог дать хороший совет.
Тогда и пал выбор на район Пяти углов, где, как я уже писала вначале, органически соединились старинные и вполне современные уголки города. Все важное для повседневной жизни и для удовольствий находилось близко: лучший рынок и почта, школа в здании бывшей гимназии, театры, места для прогулок.
Около самого перекрестка Пяти углов, на четной стороне Загородного проспекта, стоял построенный всего десяток лет назад солидный доходный дом за номером 24, с представительным фасадом, облицованным серым гранитом. Нижний этаж фасада украшали огромные арочные окна-витрины в венецианском стиле. Помещения предназначались для магазинов или офисов. За мощной аркой центральных ворот и двумя арками входов – по бокам от них – открывались и уходили вглубь два просторных двора. Их разделяла широкая четырехэтажная перемычка над очередной аркой. Здесь находились лучшие в доме квартиры с широкими окнами и балконами, с видом на оба двора. Вели в них парадные подъезды с просторными вестибюлями и мраморными лестницами. Владельцем всего массивного сооружения все еще оставалась финская акционерная компания. После того, как временно размещенный в доме госпиталь закрылся и выехал, квартиры пошли на продажу. Тут папа и купил новую семикомнатную квартиру.
Меблировка и распределение новых апартаментов не заняли много времени. Красивой добротной мебелью полны были тогда комиссионные магазины. Папа легко обставил свой кабинет, гостиную с непременным роялем, столовую с прилегающей к ней буфетной, спальню и две детских комнаты. Комната для прислуги – так называемая «людская» – вообще не требовала особого оформления. Многие мелкие вещи для повседневного быта оставалось только упаковать и привезти из Москвы. К концу 1923 года семья благополучно переехала. А в начале марта следующего года в новой маминой спальне родился второй ребенок. Нет, это был не мальчик, о котором мечтал папа. Но девочку, названную Эллой по имени дедушки Элия Дорошева, он тем не менее принял и полюбил.
Жизнь наладилась. В доме появилась няня. Папа снова смог вернуться к работе в кондитерском тресте. Возобновились поездки с образцами продукции, и даже открылись небольшая кондитерская и контора совсем недалеко от дома, на Загородном проспекте, где папа представительствовал от фирмы, а за ней все еще стояло знакомое для публики имя Жоржа Бормана. Но уверенности в том, что эта служба останется постоянной, не было. Слишком быстро все менялось и настойчиво революционизировалось в обществе.
Описывая все эти новые обстоятельства, я пытаюсь представить себе, как относился к ним папа, что переживал, о чем думал тогда сравнительно молодой еще глава семьи, прошедший через непростые испытания суровых 1920-х годов, когда вся его прежняя жизнь в который раз не по его воле менялась.
Он не стал ярым противником советских порядков, равно как их апологетом. История с подметной газетной статьей, арестом и уплотнением московской квартиры послужила для него определенным уроком: ему дали понять, что для нового государства он человек чужой, не очень нужный. Мелкая сошка.
У него еще были силы и средства, чтобы отстаивать свою, пусть относительную, независимость и личное достоинство. Он держался во всем старых правил, прежних понятий о чести и порядочности, не признавал панибратства в общении, требовал абсолютного послушания от детей. И, не находя своего места в новом обществе, он с усердием отдавал себя семье, новому ленинградскому дому.
Однако положение «не у дел» удручало папу. Бывало, он раздражался или грустил, искал утешения в каких-то мелких домашних делах. Он все умел: починить электроприборы, склеить рассохшуюся мебель. В его письменном столе лежали разные инструменты – молотки, отвертки, клещи, приспособления для припоя и даже плитки столярного клея. Придет блокада, и эти коричневые полупрозрачные пластинки станут для нас хоть временным, но спасением от голода.
Вспоминая свое раннее детство, я вижу себя на коленях у папы. Мне тепло, он обнимает и целует меня, а я прижимаюсь щекой к его гладко выбритому лицу. Мне нравились его мягкие дорогие костюмы с традиционным жилетом, застегнутым на все маленькие пуговки, белые, хрустящие от крахмала, рубашки и воротнички. И особенный, только папин запах: смесь тонкого аромата мужского одеколона и дорогих папирос. Он курил «Нашу марку» или «Герцеговину флор», держал папиросы в серебряном портсигаре, а цветные глянцевитые коробки отправлял до времени на письменный стол.
Этот стол я отлично помню. Возглавляли его два медных подсвечника в виде миниатюрных коринфских колонн с выемками для свечей в капителях. Ближе к углу стола расположилась большая бронзовая чернильница – произведение одного из братьев Лансере. Это была массивная голова Черномора из пушкинской поэмы «Руслан и Людмила» в шлеме, с длинной волнистой бородой, на которой стояла с копьем и щитом в руках маленькая фигурка Руслана.
Здесь имелось все, что требовалось для работы коммерсанта. Идеально отточенные карандаши, разные ручки с перьями в декоративном стакане, бювар для бумаг, печатная машинка «Ундервуд» и телефон.
Этот абсолютный и постоянный порядок был сродни порядку в его одежде. Он не опростился, как некоторые новые служащие, не надел модные тогда среди новоявленных советских и партийных чиновников косоворотку и сапоги. По-прежнему до блеска чистил ботинки и следил за стрелкой на брюках. Я уже рассказывала о том, что моя любимая няня когда-то называла его барином. Нет, он не был барином-бездельником. По характеру и по всему своему поведению он был труженик, любил свою службу, частые поездки, встречи с людьми. Прекрасно чувствовал себя в конторе, но с еще большим удовольствием уезжал по делам треста. Так было в Москве и продолжалось в Ленинграде.
Если в Московской квартире папа принял обстановку, оставленную прежними хозяевами, то здесь, в Ленинграде, он все устраивал по-своему. Ему импонировал солидный стиль мебели и убранства времени его молодости, то есть позднего «модерна». Вместо капризных гнутых линий и цветной орнаментальной вязи, в новом устройстве преобладала строгость неоклассики, мотивы и пропорции архитектуры нового стиля.
Большой буфет из темного мореного дуба в нашей столовой выглядел как здание, его части членились своего рода пилястрами, а верх венчал многопрофильный карниз, который скрывал большой ящик. Этот ящик тоже еще сослужит нам свою службу в блокаду. Стол и стулья, прочные и массивные, с сиденьями, обитыми кожей, в том же строгом духе дополняли ансамбль. Спальня из красного дерева была выдержана в линиях более плавных, но не менее строгих. Именно эта строгость и благородство сохранялись даже в занавесях на окнах и дверях. Тогда еще любили ламбрекены – поперечные полотнища над дверью – они тоже играли роль своего рода карнизов над боковыми, мягко спадающими вертикальными полосами занавесей.
Все эти детали вместе составляли тот самый домашний уют, который делает квартиру собственным маленьким миром, защищенным от большого мира внешнего. В те годы, о которых идет речь, контраст между этими мирами был велик. Чтобы сохранять уровень жизни, папа, имея опыт представительства от кондитерской фирмы, соглашался даже на службу коммивояжера с разъездами по делам разных торговых фирм. Он хорошо знал, что как бы далеко и надолго он не уезжал, с чем бы трудным и, может быть, чуждым не столкнулся, он возвратится в свою маленькую крепость, где его ждет все, что успокаивает и радует глаз.
Уезжал он, надо сказать, всегда охотно. Объездил города Средней России и Дальнего Востока, побывал в Средней Азии, отовсюду привозил подарки для членов семьи и, главное – рассказы о том, что видел и с кем познакомился. Восторг вызывали у нас шелковые чулки разных цветов, которых в Ленинграде не было. Папа купил их во Владивостоке: там шелковыми изделиями торговали китайцы.
Его дорожные чемоданы были столь же элегантны, сколь одежда. Настоящая прекрасной выделки кожа пахла старым добрым временем. Тогда еще в ходу были, кроме чемоданов, красивые клетчатые портпледы, с кожаными ремнями и точеными деревянными ручками, в которых иногда приходилось возить свою подушку и постель. Он всегда брал с собой изящный кожаный несессер с туалетными принадлежностями, бритвой и зеркалом, чистую салфетку и столовый прибор.
Так тогда путешествовали деловые люди: железные дороги далеко не всегда встречали их комфортом. Хорошо, если удавалось получить пульмановский мягкий вагон. Американский бизнесмен Джорж Мортимер Пульман придумал их еще в середине XIX века, и они разошлись по всему свету. В российских поездах дальнего следования их бывало один или два. А чаще ездили в так называемых жестких вагонах, с трехэтажными деревянными полками. Такого рода удобства веселили день-два детей по дороге на летний отдых, но мало подходили для многодневного делового путешествия.
Папа мирился со всеми неудобствами ради дела и новых впечатлений. Как интересны были его рассказы, словесные портреты новых знакомцев, которые встречались в пути. Способность быстро осваиваться в новых обстоятельствах и увлекаться работой восхищала многих. Я жадно слушала его маленькие истории об экзотических краях, о людях, живущих совсем иначе, чем те, что нас окружали. И знала, что после рассказов для всех взрослых обязательно найдется у него что-то специально для меня.
Особенно восхищала его природа. Когда я подросла, он открыл для меня Брема. Четыре тома знаменитой «Жизни животных» стояли на полке рядом с Детской энциклопедией и одним из первых посмертных собраний сочинений Гоголя, которого папа очень любил. Он рано показал мне «Вечера на хуторе близь Диканьки», и мы с ним иногда читали их вслух. Из поездки во Владивосток он привез роман замечательного путешественника и географа-исследователя Арсеньева – «Дерсу Узала», хотя знал, что я еще мала, чтобы прочитать его. Надя уже читала. Но он знал, что придет время – это будет и моя любимая книга, а пока он с увлечением рассказывал мне и об Арсеньеве, и о Дальнем Востоке. Очевидно, все, что он когда-то еще мальчиком упустил, не имея возможности учиться, папа теперь сам наверстывал и старался передать нам с Надей.
Из московской квартиры приехали в Ленинград разные книжки из Надиной детской библиотеки, очень популярные на рубеже веков. Вырастая, я добиралась до них постепенно. «Золотая библиотека» была полна трогательных сочинений в основном для девочек. Но «Маленькие мужчины» и «Маленькие женщины» – книжки в твердых красных переплетах с тиснением и золотым обрезом, которые любили когда-то Надя и Агнесса – не волновали меня. Зато «Шекспир для детей» в этой же серии стал любимой книгой. А вслед за ним и Шиллер, его романтические драмы в красивом четырехтомнике, изданном, кажется, знаменитым Вольфом. Со знанием дела папа покупал художественные издания: альбомы о великих живописцах, книги с иллюстрациями известных художников.
Так же как мама, папа явно обладал врожденным чувством красоты и хорошим вкусом. В сочетании с деловой интуицией эти качества приводили его к интересным и полезным находкам. В поездках по Карелии он обратил внимание на тамошние кустарные промыслы. Привез оттуда образцы изделий из карельской березы и капа-корешка. И сразу понял, что портсигары, красивые шкатулки, пепельницы, подставки для спичечных коробков могут найти хороший сбыт в торговле. Он показал образцы в известном ему учреждении торговли. Вскоре мы увидели знакомые нам предметы в ленинградских магазинах.
Пришло время, когда служба в Харьковском кондитерском тресте кончилась: сам трест национализировали, всю кондитерскую промышленность сделали государственной, крупным фабрикам фирмы Бормана дали имена старых большевиков и других знаменитых деятелей революции. Петербургская фабрика получила имя Самойлова, Московская – Бабаева. Пришло время ликвидировать контору в Ленинграде, а кондитерский магазин на Загородном проспекте передать городскому управлению. Папе нужно было искать новую службу.
О судьбе самого Жоржа Бормана в советское время мне удалось узнать немного. В трудную для себя пору он переехал в Харьков, где находился трест, который требовал его личного внимания и руководства. И там, в 1930-х годах закончил свои дни.
Не знаю, кто рекомендовал папу как опытного делового человека дирекции большой ленинградской бумажно-полиграфической фабрики «Светоч». Это хорошо известное старое предприятие на Пушкарской улице Петроградской стороны было основано немецким предпринимателем Отто Кирхнером в 1871 году. И в свое время так же, как другие частные предприятия, было национализировано. Фабрика имела большое бумажно-беловое производство, хорошо известное в России и даже за границей. Она выпускала лучшие сорта бумаги. Здесь же, в двух типографиях печатались разнообразные канцелярские товары. Тетради, альбомы, еженедельники, записные и телефонные книги, книги учета (которые в обиходе назывались амбарными книгами, поскольку еще русские купцы пользовались такими) – все эти вещи имели свой, приобретенный с годами стиль, отличались хорошим качеством и приятным внешним видом.
Возможно, что после службы у Жоржа Бормана папа сам искал похожее солидное учреждение, имеющее свою историю и репутацию, где могли бы пригодиться его опыт и деловитость. Что касается канцелярского дела и канцелярских обиходных товаров, тут явно сыграла немалую роль его любовь к принадлежностям такого рода в своей собственной деловой карьере. Он любил этих маленьких, но важных спутников человека, работающего за конторским или личным письменным столом, как любил другие красивые мелочи обихода. На фабрике он освоил входившую в моду профессию «товароведение» и стал требовательным экспертом и контролером вида и качества продукции. Он, наконец, окреп духом. Энергично включившись в новую работу, он и тут отличился деловитостью и присущей ему изобретательностью и вскоре вошел в число лучших специалистов-товароведов.
* * *
Главным делом мамы папа всегда считал почетную миссию матери и хозяйки дома. Она исполняла ее добросовестно, с любовью не только к мужу и детям. К ней тянулись близкие и дальние родственники, всех надо было принять, накормить, а главное, выслушать. У всех жизнь шла не слишком гладко. Почти каждый день приходили к обеду старший брат мамы дядя Исаак с сыном Яшей-студентом, а с ними Яшин друг Исаак Векслер – тоже студент, приехавший из Киева. Приходили и приезжали другие папины и мамины родственники.
Старший папин брат дядя Миша, которому папа был обязан первой службой в строительной конторе, обосновался в Екатеринбурге, но не поладил с новым начальством и оказался под судом. Его жена тетя Берта поселилась поближе к родственникам в Детском селе, где жила тогда мамина младшая сестра Цива с семьей. Чтобы заработать на жизнь и посылать посылки мужу, тетя Берта продавала на Кузнечном рынке искусственные цветы собственного изготовления – для дамских шляп и платьев. Они тогда были в моде. Я замирала от восторга, когда она возвращалась с рынка с остатками непроданного товара. Тетя выкладывала фантастической красоты цветочки на стол. Пока мама кормила ее обедом, можно было их рассмотреть и даже потрогать.
Мама любила кормить гостей. Она делала это так приветливо и щедро, что трапеза за нашим столом даже в будни казалась праздничной. Традиционные чаепития. В эти часы в столовой на самоварном столике с мраморной столешницей пыхтел самовар, а на большом столе стоял фарфоровый поднос с пышным маминым кренделем, посыпанным сахарной пудрой. Папа начинал особый ритуал: колол щипцами сахарную голову в синей бумаге. И сейчас вертится в голове стихотворение о сахарной голове:
Сахарная голова
Ни жива, ни мертва –
Заварили свежий чай –
К нему сахар подавай!
Автором книжки «Парус» 1925 года издания, где стихи напечатаны, был Осип Эмильевич Мандельштам. Рисунки сделал Мстислав Валерианович Добужинский. Больше эта книжка никогда не переиздавалась.
Во всех наших домашних обычаях таился, без сомнения, воспитательный смысл. Два жизненных навыка мама считала обязательными для меня и для сестры: гостеприимство и умение ухаживать за больными. С малых лет она учила меня давать заболевшей бабушке нужное лекарство, не забывая при этом об улыбке и ласковом слове. Терпеливо показывала, как сервировать столик у ее кровати, подавать на чистой салфетке чашку чая с сухариками или бутербродом, тактично спрашивать о самочувствии, предлагать помощь. Теперь этому детей никто не учит.
Легко ли давалось родителям гостеприимство и поддержание привычного уровня жизни семьи? Думаю, что нет. Время все еще было суровое. После НЭПа снова ухудшилось продовольственное положение в стране, и в 1928 году правительство ввело карточную систему распределения хлеба и других продуктов питания.
Всем выдавались так называемые «заборные книжки». Это название продовольственных карточек происходило, конечно, не от слова «забор», а от глагола «забирать». Продукты как будто бы не покупали, а забирали в магазинах установленную норму на месяц.
Чтобы ее получить, следовало прикрепиться к определенному магазину. Еще один языковый и бытовой абсурд того времени: «прикрепление». Сами нормы были скудными и выдача продуктов – не регулярной. Правда, по-прежнему работали продовольственные рынки, и там можно было за немалые деньги все купить. Мама считала, что хорошее питание, к которому привыкла семья – залог здоровья всех – и детей, и взрослых. Но чтобы всех накормить, требовались средства. Даже когда папа начал свою новую службу – его государственной зарплаты не хватало. Приходилось находить деньги другим путем: что-то продавать.
Так исчезал вдруг пушистый ковер из спальни. Вместо двух широких кроватей красного дерева осталась одна. Уходила постепенно и серебряная посуда. В 1929 году в нескольких городах СССР начали свою работу особые магазины – «Торгсины» – так сокращенно называлась «торговля с иностранцами». Населению предлагалось сдавать в такой магазин золотые и серебряные вещи, драгоценности. Вместо них выдавались боны, заменяющие деньги. На боны покупали продукты, не входившие в жалкий рацион заборных книжек.
Мне рассказали недавно, что инициатива открытия торгсинов шла не только «сверху», но и «снизу». Один из жителей Иркутска, в прошлом золотоискатель, дважды арестованный по следам его причастности к добыче драгоценного металла, но впоследствии освобожденный, написал в правительство, что можно извлекать у населения золото, серебро и драгоценности на добровольных началах, взамен улучшая снабжение граждан продуктами питания и необходимыми товарами легкой промышленности. Полученное при этом золото государство могло бы использовать для покупки за границей необходимых ему предметов индустрии, в которых оно нуждается.
Со своим проектом этот гражданин должен был поехать в Москву, но в третий раз был арестован в момент отъезда. В конце концов проект приняли, поначалу с большим риском, на каком-то одном важном участке. Полученный результат помог продвижению государственного проекта. Собранные у населения золото и серебро шли за границу в обмен на предметы и товары, необходимые для оснащения еще не вставшей на ноги советской промышленности.
Хотя название таких магазинов предполагало торговлю с иностранцами (тогда много иностранных специалистов, главным образом инженеров, жили и работали в СССР), сами иностранцы в этих магазинах ничего не покупали. В торгсинах принимались не только золото и серебро, но и американские доллары. Те советские граждане, у кого родственники или друзья жили за границей, могли получать от них доллары по почте. Недавно в Иерусалиме доктор филологии Нелли Портнова опубликовала письма в Палестину жительницы Белой Церкви под Киевом Берты Пергамин. Она писала друзьям своей юности о бедственном положении на Украине. Выдающийся деятель сионизма Михаил Усышкин посылал ей систематически небольшую сумму в долларах, чтобы спасти от голода.
Ленинградский Торгсин открылся, насколько я помню, на Невском проспекте, который тогда назывался «Проспектом 25 Октября». Мама не решалась сама ходить в этот магазин. Возможно, ее останавливал страх, что за людьми, приносящими в магазин золото или серебро, следит милиция.
Однажды родители уже испытали, что значат подозрения власти в укрытии золота, так необходимого для нуждающегося пролетарского государства. Когда-то папа одни сутки просидел, вернее, простоял в забитой арестованными общей камере петербургских «Крестов» (знаменитой питерской тюрьмы) из-за подозрений в том, что он скрывает золото. Подозрения, разумеется, не оправдались, папу выпустили, но страх остался.
Дорогих золотых или серебряных вещей в семье было не так уж много. Мама легко расставалась с сережками или кольцами, красивыми туалетными коробочками из хрусталя, оправленными в серебро, хрустальными вазами для цветов с оправой и богатыми серебряными ручками, если за это можно было получить в торгсине сливочное масло, сахар, крупу в достаточном количестве и мясные продукты.
Тогда близкие нам молодые люди – племянник Яша или его друг Исаак – приходили к маме, забирали нужные для обмена вещи и отправлялись в торгсин. Так туда постепенно ушло и все наше столовое серебро: красивые вилки, ножи, столовые ложки. Исчезли изящные серебряные подставки для вилок и ножей с маленькими фигурками оленей на концах. Ушли и серебряные кольца для салфеток.
Папа не хотел совсем лишиться этих мелочей и менять традиционную сервировку обеденного стола. Он сразу купил вместо красивых серебряных подставок – стеклянные, а серебряные кольца заменил более простыми, точеными из кости.
Мама не отказывалась и от других возможностей выручить деньги, необходимые для домашнего хозяйства. Однажды мы увидели, что она шьет из ситца красивые кухонные фартуки с разнообразной отделкой. А шила она прекрасно еще с тех времен, когда ее отдали в ученицы портнихе, чтобы заработать немного денег на учебу в Киеве.
Теперь она это делала потихоньку от папы, когда он уходил на службу, чтобы не ущемлять его достоинства хозяина и кормильца. За этой поистине художественной продукцией приходила женщина, которая продавала мамины изделия на Кузнечном рынке. Фартуки раскупались сразу, в тот же день, что их приносили на рынок, а деньги, за вычетом суммы, отданной в благодарность продавщице, шли в семейный бюджет.
В эту нелегкую пору мама уделяла мне особенно много внимания. Мы ездили навещать няню, а дома много часов проводили вместе. Читали, рассматривали художественные альбомы. Она рассказывала мне о своем детстве, вспоминала свои любимые сказки. К ее рассказам о российской истории теперь добавилась история библейская. Мама знала ее с детства, занимаясь в хедере у дедушки.
Библия в те годы считалась запрещенной литературой. Ее не стоило держать дома. Но у нас была очень популярная в те годы, богато изданная в переводе на русский язык книга Джона Милтона «Потерянный и возвращенный рай». Прекрасные гравюры Гюстава Доре иллюстрировали все значительные эпизоды из Библии. Эта солидная книга в нарядной, тисненой золотом обложке заменяла тогда многим детям и запрещенную Библию, и учебник древней истории. Мама считала, что я должна все это знать.
Мне очень нравились гравюры. Глядя на них – на величественные древние пейзажи, могучие фигуры древних людей, я верила в созданную художником историческую картину мира, рождающегося из вселенского хаоса по велению высшей силы.
С мамой всегда было очень интересно. Первые сказки, не напечатанные в красивых книжках, рассказала мне мама. В «Царевне-лягушке» я, еще маленькая, помнила всю драматическую линию событий, и мы вместе много раз пересказывали их друг другу. «Потерянный и возвращенный рай» Джона Мильтона с непревзойденными гравюрами великого Гюстава Доре, о которой я упоминала – это была наша любимая, много раз читанная книга.
Две другие замечательные книги особенно волновали мое воображение. Большой альбом Яремича о Врубеле – роскошное издание Кнебеля – мог заменить целый музейный зал. И мы с мамой рассматривали его много раз вместе, и еще много раз я одна. Могучий и печальный демон Врубеля вызывал особенную жалость еще и потому, что в опере Рубинштейна его знаменитую арию исполнял Шаляпин. Все это были тогда кумиры любителей оперы разных поколений и сословий.
Когда мама читала мне вслух Лермонтова, Демон из альбома Яремича оживал в стихах. Мир всех необыкновенных героев теснился в детском воображении, восхищал и пугал одновременно.
Детские страхи – вечные спутники растущего ребенка. Кто их не испытал в своей жизни… Страхи приходили поздно вечером и рисовали в детском воображении какие-то таинственные картины. Одной девочке казалось, что старые пальто в прихожей зашевелились, готовые удрать на темную улицу. Другой мальчик боялся, что кто-то чужой проберется в дом и начнет шарить по комнатам. Я боялась «Пиковой дамы».
Уходя с папой в театр или на концерт, мама просила Симу провести со мной время до их возвращения. Сима всегда быстро справлялась со своими уроками и скучала по вечерам. Она охотно предлагала мне вместе рассматривать картинки в самых красивых из художественных изданий, собранных папой. С удивительной последовательностью каждый раз, оставаясь со мной один на один, Сима выбирала «Пиковую даму» Пушкина с превосходными иллюстрациями Александра Бенуа.
Вкус почти рафинированный, что не удивительно: Сима росла в атмосфере любви к книгам. В повседневности Сима отличалась молчаливостью, но передо мной разыгрывала пушкинскую драму в лицах, сопровождая все действия героев нелицеприятными комментариями. И я дрожала от страха перед старой графиней, и особенно перед жестоким Германом с пистолетом в руке.
Моя чувствительность не пугала маму, и она совершенно сознательно не ограждала меня от всего волнующего, а скорее наоборот, хотела, чтобы я была готова к сильным впечатлениям. Так она однажды задумала взять меня с собой в Новодевичий монастырь.
Поездка в Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь находился далеко, на Забалканском проспекте. Там была мастерская, где монахини на заказ шили белье и стегали одеяла. Два сшитых для нас легких пуховых одеяла, отделанных тонким голубым шелком файдешином и простеганных красивым узором, надо было получить и привезти домой. Эта поездка оставила неожиданный для мамы и незабываемый для меня яркий след в моей детской душе.
Воскресенский Новодевичий монастырь славился не только разнообразными мастерскими, но и замечательным хором монахинь. Его пение приезжали слушать любители и знатоки музыки. Александр Эмильевич Мандельштам, брат поэта, в своих воспоминаниях пишет об этом хоре как о явлении в ленинградской музыкальной жизни двадцатых годов. Посещая могилу своей жены на кладбище монастыря, он всегда слушал уникальное пение монахинь.
И вот мы тоже ехали в Новодевичий монастырь. Я любила ездить с мамой по городу и заранее радовалась предстоящей долгой дороге. Трамвай шел к монастырю прямо от Пяти углов. Проспект уже не назывался Забалканским. Его в 1922 году переименовали в Международный проспект, но старое название упорно оставалось в обиходе ленинградцев. Желанная свободная скамейка в трамвае и окошко, в котором можно увидеть столько всего знакомого и незнакомого.
Мы проехали сначала хорошо известные места – дом бывшего Тенишевского училища, любимую Гороховую улицу. В названии «Гороховая» мне всегда слышалось что-то сказочное, вспоминались «Царь-Горох», «Принцесса на горошине»… На самом же деле она когда-то называлась Адмиралтейской перспективой, а потом получила имя немецкого купца Гарраха, приехавшего из Германии на службу к Петру Первому. В 1756 году он построил на этой улице каменный дом и открыл здесь лавку с успешной торговлей. В народе Гарраха очень скоро стали звать Горохом, затем Гороховым. И с 1750-х годов улица стала называться Гороховой. Молодой Гоголь снимал здесь когда-то квартиру.
Стоя на Загородном проспекте, можно было видеть, как перспектива Гороховой улицы упиралась в Адмиралтейский шпиль с корабликом наверху. На ней, прямой, как стрела, находились три моста: плоский деревянный мост через Фонтанку и два каменных горбатых мостика через Екатерининский канал и Мойку.
После Гороховой мы проехали Царскосельский вокзал, откуда ездили в «Детское село». Миновали Обуховскую больницу с прудиком и садом. Это ведь здесь, как писал Пушкин в «Пиковой даме», сидел сошедший с ума Герман и бормотал в беспамятстве: «Тройка, семерка, туз»…
Вскоре после больницы мы повернули на проспект. Достопримечательностей тут почти не было. Мы даже не доехали до знаменитых Триумфальных ворот с летящей наверху богиней Победы Никой. Они остались где-то правее нашего пути.
Наконец, появляется длинная ограда монастыря. Время как будто останавливается. За оградой царит какая-то особая тишина. Зеленеют деревья и газоны. На чистых, посыпанных песком дорожках редко мелькнет и скроется чья-нибудь фигура. Эта картина настолько ясно стоит перед моими глазами, что я начинаю сомневаться: не слились ли мои детские впечатления – с чем-то, увиденным в каком-нибудь фильме. Но нет. Ведь я помню, как мы с мамой вошли в светлый двухэтажный дом, где жили монахини, и пожилая женщина, одетая по-монашески, тихо говорила с мамой и улыбалась нам. Своей походкой и голосом она напомнила мне мою няню. Наш заказ готов, и тихая эта монахиня предлагает маме зайти в храм, послушать хор.
Мне ясно вспоминается огромной высоты церковное пространство. Возможно, храм и не был так велик, а просто я была тогда очень мала. Но помню, что все сверкало от света, льющегося из окон купола. Повсюду горело множество свечей. Блестел золотом иконостас. Мы встали недалеко от входа, и вдруг неизвестно откуда послышались громкие и вместе с тем нежные, томящие душу звуки.
Женский хор грянул мощно, мелодия проникала всюду и то ли летела ввысь под купол, то ли, наоборот, падала оттуда. Самих монахинь не было видно. Что-то во мне вдруг дрогнуло, сердце забилось, и я отчаянно громко заплакала. А удивительное пение все неслось куда-то и тревожило все сильнее. Мама тщетно пыталась меня успокоить, и скоро ей пришлось увести меня в церковный двор. Там я перестала плакать. Потом мы забрали свои одеяла, сели в трамвай и долго-долго разговаривали всю дорогу по пути домой.
В 2000 году я ехала из аэропорта «Пулково» по Московскому проспекту, который вобрал теперь в себя все бывшие названия: и Забалканский, и Международный. Из старенького путеводителя по Ленинграду мне было известно, что Новодевичий монастырь числится здесь как строение номер 100. Но не удалось тогда из окна мчавшегося по проспекту автомобиля увидеть какие- то постройки с номерами на стенах. Монастырь стоял в стороне от магистрали, и посмотреть, что с ним стало и как он выглядит, не было возможности.
Прошли годы. Недавно я заглянула в Интернет и увидела самые новые фотографии всех зданий Новодевичьего монастыря, которые реставрируют после многих лет разрушений. Как же было не всмотреться в эти снимки и не постараться узнать побольше, что произошло с этой старинной и знаменитой петербургской обителью за годы революционной смуты и долгой советизации России…
Вот большая церковь, построенная во имя Казанской Иконы Божьей матери. Ее монахиня называла храмом. И он был действительно великолепен, потому, что проектировался и строился архитектором В.А. Косяковым в 1908–1912 годах по образцам византийских церквей. Русский архитектор специально ездил в Константинополь, чтобы проникнуться стилем древней архитектуры. И ему удалось выразить в какой-то мере ее стилистику.
Церковь напоминает своими формами Собор святой Софии в Константинополе. Она богато украшена цветной майоликой, разнообразными рельефами, панно, сверкающими смальтой. Но долгая история всего монастыря не с ее строительства началась и не на ней закончилась. Все его постройки отразили несколько эпох и архитектурных стилей и, конечно же, следы борьбы большевиков с религией.
Родоначальником Воскресенского Новодевичьего монастыря был Смольный монастырь на берегу Невы – красивейшее здание Растрелли. Смольным он назывался потому, что еще при Петре Первом стоял на его месте Смоляной городок, обслуживавший своей дегтярной продукцией детище императора – Адмиралтейскую верфь.
Петр приказал возвести по соседству летний дворец для своей любимой дочери Елизаветы. В 1744 году дворец сгорел, и Елизавета, ставшая императрицей, распорядилась построить на его месте Воскресенскую Новодевичью обитель, куда она сама на старости собиралась удалиться.
Растрелли приказали строить монастырь небывалый по красоте, с величественным храмом Воскресенья. 120 девиц благородных семей должны были составить окружение настоятельницы. Для каждой – отдельный апартамент с комнатой для прислуги, кладовкой и кухней.
В 1749 году отслужили молебен, положив основание монастырю, и назвали его Воскресенским Новодевичьим. При жизни Елизаветы возвели вчерне только собор и построили кельи. Строительство продолжали уже при Екатерине II.
Желая сделать монастырь полезным заведением не только для монахинь, она учредила здесь Воспитательный дом для девиц благородного и мещанского происхождения – будущий знаменитый Смольный институт. Несколько лет монастырь еще существовал вместе с этим заведением, но постепенно захирел, и его вообще упразднили.
И только Николай I, по замыслу своей дочери Ольги, через сто лет после закладки монастыря на берегу Невы, в 1848 году утвердил план возрождения Воскресенского Новодевичьего монастыря совсем в другом месте. Ему отвели большой участок земли по Царскосельской дороге, на южной окраине Петербурга. Быстро, за один месяц, построили в византийском стиле первую деревянную церковь Иконы Казанской Божьей матери – предшественницу будущего храма. Одновременно заложили каменные постройки для монахинь. И началось большое многолетнее строительство.
Предполагалось, что архитектурный ансамбль будет состоять из трех важных зданий: Воскресенского собора и двух каменных пятиглавых церквей по обе стороны от него. Постройка главного Воскресенского собора была поручена архитектору Н. Е Ефимову, ученику Константина Андреевича Тона, автора московского Храма Христа Спасителя. В 1861 году свое место заняли монастырское кладбище и шесть домов для монашеских келий. И уже в 90-х годах XIX века была закончена спроектированная Леонтием Николаевичем Бенуа высокая четырехярусная колокольня.
К началу 1917 года на территории монастыря стояли главный собор и семь церквей. А на кладбище среди могил именитых петербургских горожан находились захоронения известных государственных деятелей, крупных военных, а также русских писателей и других деятелей русской культуры. Здесь нашли свой последний приют Некрасов, Тютчев и Майков. Художники Врубель, Лагорио, архитектор Леонтий Бенуа, композиторы Римский-Корсаков, Лядов, Направник и Варламов. Тут похоронен был и великий русский врач Сергей Петрович Боткин.
Как только в 1850-х годах монастырь заселили монахини, его большое хозяйство начало расти. На всю Россию славилась иконописная мастерская, где живопись и рисунок преподавали академики живописи Г. И. Яковлев и П. П. Чистяков. Кроме нее открылись и быстро завоевали известность другие мастерские: золотошвейная, башмачная, просфорная. При монастыре процветали сады и огороды, имелся свой пчельник. Монахини открыли детский приют и больницу, содержали богадельню.
Церковные службы привлекали многих прихожан. Особенно знаменит был хор. Колокольня, построенная по проекту Леонтия Бенуа, своей высотой и репрезентативностью напоминала Колокольню Ивана Великого в Кремле.
С октябрьского переворота началась новая, можно сказать, парадоксальная история обители. Большевистская власть решила упразднить монастырь, но вопреки всему он продолжал существовать. Кому-то из служителей церкви пришла в голову счастливая мысль дать братству сестер-послушниц названия, соответствующие революционным преобразованиям. Улыбку вызывают эти наивные эвфемизмы, сохранявшие какое–то время монастырскую жизнь: «Сельскохозяйственное общежитие Воскресенского Новодевичьего монастыря», «Колхоз «Труд» общежития Новодевичьего монастыря», «Воскресенское трудовое братство».
Не все, однако, удавалось спасти от разорения. В пылу повсеместного уничтожения религиозных святынь в стране часть церквей снесли, разграбили инвентарь. Особенно пострадало кладбище. Большинство кладбищенских часовен тоже подверглось разграблению. Ценные памятники на могилах разбили настолько, что знаменитый некрополь, по воспоминаниям очевидцев, напоминал каменоломню. Некоторые надгробия с трудом удалось перенести в Александро-Невскую Лавру.
В то время по всей России в массовом порядке закрывались монастыри, храмы и духовные учебные заведения, а многие служители церкви подвергались арестам, ссылке, физическому уничтожению. Вот только цифры, говорящие о судьбах церковной архитектуры в городе Санкт–Петербурге. К 1917 году там насчитывалось 465 православных храмов. К 1922 году их осталось только 123. Из закрытых церквей ценная утварь, иконы, священные реликвии изымались, а сами храмы превращались в складские помещения. Как раз тогда пострадал ближайший к Загородному проспекту Владимирский собор. Воскресенский собор Новодевичьего монастыря тоже пережил потерю части церковного имущества.
К тому времени, как мы с мамой приехали в монастырь, монашеский быт еще не претерпел революционных изменений. Еще в 1926 году в списке сельскохозяйственной артели монастыря числилось около трехсот монахинь. Они по-прежнему жили в домах, отведенных под кельи и мастерские. Мастерские работали, в соборе шла служба, кладбище еще не пострадало. Более того, в монастыре жил и служил митрополит. Работал даже Епархиальный совет. Может быть, удаленность монастыря от основной части города оберегала его настолько, что он все еще оставался центром церковной жизни Ленинграда. Но, увы, до поры до времени.
В начале 1930-х годов порученцы советской власти последовательно разрушали монастырское хозяйство. По чьему-то приказу снесли купола главного собора. В 1932 году арестовали монахинь. Тех, кто способен был самостоятельно передвигаться – вывезли и отправили в концентрационные лагеря. Больных и престарелых заперли в подвале, где они вскоре погибли от голода и холода. Ленинградский Мартиролог, составленный обществом «Мемориал» содержит полные списки арестованных. 140 монахинь вывозили в четыре приема: в декабре 1931 года, а затем в феврале и марте 1932-го, в декабре 1935 года.
В 1933 году взорвали высокую красивую колокольню. Этот акт вандализма последовал вскоре после того, как был взорван в Москве Храм Христа Спасителя. Какое-то время еще не трогали митрополита. Но в 1937 году вся церковная жизнь прекратилась. Митрополит был арестован. Внутренние помещения церквей полностью перестроили и разместили там советские учреждения. Часть помещений отвели под ферму для холмогорских коров. Так надругались над святой обителью и над старинной архитектурой.
Только в начале 1990-х годов началось восстановление Новодевичьего монастыря, и его деятельность была юридически узаконена. Прошли годы, пока монастырская жизнь снова установилась. Все здания теперь отреставрированы, снова идут церковные службы. Снова работают мастерские.
* * *
Мне неизвестно, знала ли мама до нашей поездки о знаменитом хоре монастыря. Ни она, ни папа – оба не учились музыке, но оба любили ее. Они не пропускали новых оперных спектаклей, хороших симфонических концертов в филармонии, дома слушали радио. У нас работала не только черная тарелка городской радиосети, но и хороший ламповый радиоприемник, который купил папа. Музыка постоянно звучала дома.
В спокойные часы, когда мы оставались одни, мама любила напевать. Она вспоминала романсы своей молодости и простенькие песенки, из тех, что принято называть городским фольклором. Нежные напевы романсов, такие, как «Белой акации ветки душистые» или «Дремлют плакучие ивы», переносили меня в какой-то добрый и грустный мир. В песенках мелькали сценки «в одной знакомой улице», где красавицы в домиках «с завешенным окном» ждали своих возлюбленных, или тихие места, где росли «все васильки – васильки» и бледные болезненные девушки катались в лодках, бросая цветы в речку.
Я слушала мамино пение и представляла себе ее молодую и ее киевских подруг. Кое-кто из этих друзей юных лет бывал у нас в гостях. И все они отличались каким-то особым, несовременным стилем поведения. Я чувствовала, что и говорят они о своей молодости каким-то несовременным языком, с нежностью вспоминают совершенно незнакомую мне жизнь.
Были у нас с мамой и свои маленькие секреты от домашних. В платяном отделении зеркального шкафа спальни хранился в уголке заветный чемоданчик из черной кожи с малиновой бархатной обивкой внутри. Там лежали сверкающие белой сталью мамины зубоврачебные инструменты, когда-то подаренные папой. Разного вида и размера щипцы, крючки, шпатели, крошечные сверла-боры, длинные наконечники к ним, иглы и многое другое.
Стоило мне только представить себе, как мама действует страшноватыми щипцами и сверлами, – дух захватывало и от страха, и от восхищения. Не раз, когда дома никого кроме нас не было, я просила, чтобы мама достала чемоданчик. Она рассматривала свои без употребления лежавшие сокровища, бережно и любовно, и говорила, что когда-нибудь я обязательно увижу, как она работает.
Это время нашей близости, как я теперь понимаю, было для мамы трудным периодом внутреннего смятения. Она жаждала совсем другой жизни, выходящей за пределы домашнего очага. Она любила нас всех, но томилась в узком кругу домашних дел. Мама хотела, наконец, осуществить свое, как ей казалось, важное предназначение лечить людей. А для этого требовалось подтвердить царский диплом и восстановить право на врачебную практику. Разумеется, не частную, а государственную, подобающую, по ее представлениям, тому времени, когда врачи особенно нужны обществу рабочих и крестьян.
После долгих раздумий пришло нелегкое решение: мама отправилась на городскую Биржу труда, где многие тогда стояли в долгих очередях, чтобы получить работу. Я могу только предполагать, насколько трудно ей было убедить папу в правильности такого шага. В его представлении это означало, прежде всего, то, что он не может один прокормить семью. Его достоинство хозяина дома таким образом еще никогда не ущемлялось. Но в то же время он понимал: все идет к тому, что работать должны теперь они оба, и мама даже имеет кое-какие преимущества. Ее специальность может оказаться более востребованной, чем его способности делового человека без высшего образования.
К сожалению, у меня нет под рукой незабываемого документа – маминого заявления на Биржу труда. Оно отразило и время, и характер мамы. Помню только смысл обветшавшей и пожелтевшей за годы странички. Наверное, это был черновик, а само заявление осталось на бирже.
Подробное и мотивированное «Заявление с просьбой предоставить работу по врачебной специальности», напечатанное на пишущей машинке, отличалось хорошим литературным слогом. Вероятно, под мамину диктовку писал наш папа – на одной из старых фотографий он сидит за своей машинкой знаменитой фирмы «Ундервуд».
В заявлении мама сообщает о своем медицинском образовании и пишет, что не работала долгое время исключительно по семейным обстоятельствам, поскольку должна была воспитывать детей, и теперь, когда они выросли, хочет отдать все свои силы и знания врача советскому государству.
На бирже выяснилось, что условия, на которых мама могла получить работу, были далеко не простыми. Сначала требовалось пройти практику в ленинградской больнице, потом – выехать из Ленинграда на один год в промышленный или сельскохозяйственный район. Как говорилось тогда, «на периферию». Куда именно, речь пока не шла, но требовалось подписать принципиальное согласие на выезд. Она подписала.
* * *
Подходил к концу 1929 год. 7 ноября центральная партийная газета «Правда» опубликовала статью Сталина под броским названием «Год великого перелома». В своих статьях и выступлениях Сталин любил эффектные определения. Подхваченные партийцами, они вскоре превращались в лозунги, призывающие к действию все население страны. Лозунги помогали управлять, а главное – скрывать истинный характер происходящего. В своей знаменитой антиутопии Оруэлл блестяще высмеял эту страсть тоталитарного государства к лозунгам, манипулирующим сознанием масс.
Сталину нужно было внушить людям, что перелом к лучшему наступил в сельском хозяйстве, потому что успешно идет раскулачивание, и крестьяне объединяются в колхозы. На самом деле это было, конечно, грандиозным лицемерием. Оба эти навязанные народу мероприятия проводились в жизнь с большим трудом и немалыми жертвами. Они медленно, но верно вели к гибели крестьянства и его лучших трудовых традиций, а соответственно и к падению сельского хозяйства.
Пройдут годы, и Александр Солженицын назовет этот перелом – переломом хребта российского крестьянства. Удачно найденный образ вполне соответствует тому, что происходило в действительности.
Власть последовательно продолжала начатое революцией разрушение всех прежних основ жизни в деревне. К 1929 году только усугубился хлебный кризис. Отнятый у крестьян хлеб шел на экспорт для закупки промышленного оборудования, в котором нуждалась обескровленная революцией страна. Раскулачивание означало на деле насильственную высылку лучших трудолюбивых крестьянских семей, несправедливо названных кулаками, их жен и детей, на Восток России, в Сибирь и другие безлюдные суровые места. Там насильственные переселенцы, лишенные своей земли и налаженного хозяйства, чаще всего погибали.
Вместе с раскулачиванием в деревню пришел страшный голод. Вымирали целые семьи с детьми. Сельское население в отчаянии устремилось вон из деревни. Девушки бросали отчий дом, нанимались в городах в няньки и домашние работницы. Кому-то удавалось устроиться разнорабочими на заводы. Другие вербовались в отъезд землекопами и простыми подсобниками – лишь бы иметь кусок хлеба.
Тем временем тысячи заключенных строили новые города, заводы, электростанции, рыли каналы, валили строевой лес в так называемых исправительно-трудовых лагерях, напоминавших, скорее, тяжелейшие условия содержания в лагерях концентрационных. Создавалась пополнявшаяся год за годом армия людей, вырванных из жизни арестами. Так карательные органы, поставляли стране бесплатную и бесправную рабочую силу.
Одновременно, в больших городах проводилась чистка советского аппарата служащих. Власть стремилась уволить ненадежных работников. Одновременно требовалось заменить бывших буржуазных специалистов, высланных или расстрелянных в первые послереволюционные годы. Не хватало инженеров, экономистов, врачей, учителей. Выпускалось множество постановлений, с помощью которых партия большевиков наводила порядок в разрушенных областях производства и привлекала к работе новых служащих.
Я разыскала одно из партийных постановлений 1929 года, самым непосредственным образом коснувшееся маминой судьбы: «О медицинском обслуживании рабочих и крестьян». За гуманным названием постановления скрывалось немало лжи. Все знали, что многих крестьян ждало не медицинское обслуживание, а непосильный труд, болезни и часто смерть в местах переселения. Положение рабочих в городах было немного лучше, хотя условия труда тоже не способствовали здоровью.
Вскоре после публикации постановления в городах начали строить новые и ремонтировать старые поликлиники, возникали так называемые здравпункты, профилактории для рабочих при заводах и фабриках. Таким образом, мамино заявление на биржу труда попало в подходящий момент. При Путиловском заводе – одном из самых старинных и крупных чугунолитейных заводов в Ленинграде – расширялась прежняя больница для рабочих. Ее достроили и вскоре присвоили ей имя большевика Володарского, который был убит в 1918 году эсерами. Там требовались врачи всех специальностей, в том числе стоматологи. Именно в этой больнице и началась мамина первая советская служба.
Завод и больница находились недалеко от Нарвской заставы. Здесь располагался совсем другой, по сравнению с городским центром, район. В XVIII веке отсюда шла на Запад Петергофская дорога, а вдоль нее – дворцы и дачи екатерининской придворной аристократии. Дорога связывала Петербург с Нарвой и Ревелем, нынешним Таллинном. Так же, как на Васильевском острове, в этих краях складывалась маленькая провинция со своими природными ландшафтами, озерами и ручейками, с выходами к побережью Финского залива. Недалеко располагались деревеньки с огородами и мелкой пашней. Но в начале XIX века на седьмую версту Петергофской дороги перевели из Кронштадта Казенный чугунолитейный завод, и все вокруг изменилось.
В старый дачный пригород вторгался промышленный век. В 1860-х годах завод приобрел некий Н. И. Путилов. И его стали называть Путиловским по имени хозяина. Постепенно расширяющееся тяжелое производство поглощало прежние деревни в округе, втягивало в себя тысячи рабочих, которым требовалось городское жилье. Вокруг завода и других нарождающихся предприятий возникали улицы, где строились бараки и доходные дома. В этих новых условиях дачное строительство приходило в упадок. Прежние дворянские усадебки и маленькие дворцы с парками постепенно теряли хозяев и уступали место новым городским улицам.
К началу XX века окрестности завода превратились в рабочие окраины города. Сюда от Нарвской заставы до Путиловского завода ходила конка. В 1907 году ее сменил трамвай. Со временем трамвайное сообщение с рабочим районом расширилось, и в 1920-х годах к Путиловскому заводу можно было проехать из разных концов Петрограда. Петергофская дорога уже называлась Петергофским шоссе. В 1923 году его переименовали в Улицу Cтачек: стачками завод был известен еще с 1905 года, когда знаменитая забастовка 9 января закончилась расстрелом рабочих на Дворцовой площади. За ней следовали стачки 1915-16-го годов. И, наконец, в феврале 1917 года, в дни революции всеобщая стачка петроградских рабочих, инициированная путиловцами, перешла в вооруженное восстание.
После октябрьского переворота, в декабре 1917 года завод был национализирован. В пору увлечения революционными переименованиями всего и вся его даже назвали «Красным путиловцем», но название не прижилось, а особая, суровая атмосфера рабочей окраины осталась. Здесь предстояло маме проводить весь свой служебный день.
Вставала она очень рано и на трамвае ехала из дома на другой конец города. Эта езда ничем не напоминала наши с ней спокойные путешествия на Васильевский остров или в Новодевичий монастырь. Ранним утром трамваи шли переполненные рабочими и служащими, которые спешили на заводы и учреждения. Люди толпились в вагонах, стояли на площадках, висели, держась за поручни, на ступеньках. Бывало, пользуясь теснотой, среди едущей в таких условиях публики орудовали ловкие воришки-карманники. Пассажиры раздражались, не стесняясь в выражениях, обвиняли во всех неудобствах друг друга или городское управление.
Бывало трудно влезть в битком набитый вагон, а порой еще труднее – выйти на нужной остановке. Для мамы, миниатюрной хрупкой женщины, такая поездка превращалась в тяжелое испытание. Но впереди была цель, ради нее она терпела все неудобства, никогда не жаловалась и даже с юмором рассказывала о маленьких происшествиях, которые часто случались в трамвае.
Мы ждали маминого возвращения с тревогой. Я особенно скучала по ней. Помню, как ко времени ее обычного возвращения я становилась между двойными дверями балкона, выходящего во двор, и ждала, когда, наконец, застучат по асфальту мамины каблучки. Ее походку я могла отличить от сотни других. Папа тоже волновался, если приходил со своей службы раньше. А дома теперь оставались я и две бабушки. Надя и Сима учились, каждая в своей школе.
* * *
Они были очень разные – мои бабушки. И каждая достойна отдельного рассказа. Папина мама Раиса Яковлевна (так на русский манер называли Рисю Янкелевну) появилась в семье еще в московский период. О ней с любовью и восхищением рассказывала мне Надя. Бабушка замечательно готовила и великолепно пекла самые вкусные изделия еврейской кухни – пряники, булочки, коржики с маком и прочие сдобные сладости. Она научила Надю мелкому шитью и рукоделию.
Мои отношения с этой бабушкой складывались постепенно, уже в Ленинграде, после того как уехала няня. Но по-настоящему дружескими они стали, когда мама начала ездить на работу в больницу.
Я и сейчас, хотя прошло с той поры чуть ли не восемьдесят лет, очень ясно вижу нашу «Большую бабушку». Она мне, и правда, казалась высокой и стройной. Годы вдовьего труда и служения в чьих-нибудь помощницах не согнули эту сильную энергичную женщину.
Она одевалась по моде конца XIX века, носила длинные платья темных тонов с какими-то симпатичными складочками на груди и белыми кружевными накладками у воротника. Длинные волосы темно-каштанового цвета с легкой проседью зачесывала небольшим пучком высоко на затылке. Главным украшением ее приветливого лица были глаза, большие, глубокие карие глаза, красоту которых унаследовал мой папа.
Может быть, от тех еще пор, когда дедушка Залман вел свои дела успешно, у бабушки остались красивые вещи. Мне помнится роскошный черепаховый гребень, которым она иногда закалывала волосы, и особенно – меховая накидка с загадочным для меня названием «боа». Коричневый гладкий мех зверька скунса блестел и переливался на свету, а всю накидку украшали маленькие, точно живые темные хвостики.
Бабушка позволяла мне надевать накидку, чтобы играть в важную даму. С ней было весело. Помню, как мы вместе хохотали, когда я читала ей вслух «Детство, отрочество и юность» Льва Толстого – большую красивую книгу в сером переплете.
В описании занятий Николеньки с учителем Карлом Ивановичем то и дело попадались немецкие слова. Я не могла их прочесть, но придумывала вместо них какую-то тарабарщину, чтобы не нарушать плавного течения повествования. Смешно нам обеим было до слез.
Я никогда не видела, чтобы бабушка держала в руках молитвенник, тогда как у «Маленькой бабушки» их было несколько. Нет, «Большая бабушка» охотно что-то читала в свободную минуту, слушала музыку по радио. Но свободных минут у нее выпадало не так уж много. Целый день она хлопотала по хозяйству, и я любила смотреть, как ловко она все делала своими руками.
Ее пышные и сочные котлеты из свежего мяса таяли во рту. Скорее всего, это она делала знаменитые «Котлеты Дорошева», которыми славилось когда-то меню в Киевском ресторане дяди Исаака. Но особенно восхищала меня домашняя лапша ее изготовления. Тонко-тонко она раскатывала на доске большой желтый круг яичного теста. Выкладывала его сушить на подушку с чистой наволочкой. И когда тесто подсыхало (надо было не пересушить его, и мне доверялось за этим следить!) – начиналось самое интересное: круг скатывался в длинную трубочку и ловкие бабушкины руки нарезали из трубочки тончайшие полоски лапши.
С таким же мастерством исполнялись из теста знаменитые «Ушки» из белой муки, начиненные мясом – что-то вроде малюсеньких пельменей, которыми бабушка заправляла прозрачный душистый бульон.
Никто не умел делать их так красиво. И я была совершенно ошеломлена, когда в 1968 году в прекрасном городе Болонье, на официальном обеде в мою честь, подали бульон с такими же «Ушками», как национальное болонское блюдо. Так меня принимали болонские коммунисты.
Милая бабушка – с ней можно было даже нарушить одно из строгих папиных установлений. Он, например, запрещал слушать приходящих в наш двор певцов и музыкантов, а пуще того – шарманщиков. Но когда его не было дома, мы с бабушкой готовили медные пятачки на случай прихода этих бедных людей, а иногда и детей, тонкими голосками поющих жалобные песенки.
Каждую монетку надо было завернуть в кусочек газеты, чтобы она благополучно долетела до артистов с нашего четвертого этажа. Мы выходили на балкон послушать пение, и в нужный момент бросали вниз приготовленный гонорар. Артисты кланялись нам с бабушкой, и мы обе уходили с балкона довольные. Больше всего мы жалели худенького мальчика, который приходил в наш двор, чтобы спеть своим тоненьким голоском всегда одну, очень жалобную песенку. Я помню из нее только три куплета:
Позабыт-позаброшен
С молодых юных лет,
Я остался сиротою
Счастья в жизни мне нет
Вот умру я, умру я,
Похоронят меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.
И никто не узнает,
И никто не придет,
Только раннею весною
Соловей пропоет.
Жалели его не только мы. Часто из подъездов нашего двора выбегали хозяйки или домашние работницы, совали ему в худенькие ручонки – кто пирожок, а кто просто кусочек хлеба. Он улыбался и говорил всегда одну фразу: «Спасибо, тетенька, дай Вам Бог здоровья, Боженька не забудет Вашу доброту». Незабываемая форма дворовой детской благодарности маленького и, конечно, голодного артиста.
Вспоминая теперь о бабушке с позиции своего преклонного возраста, я восхищаюсь ее деликатностью по отношению к моей маме. Она никогда не подчеркивала свое старшинство, хотя считалась у нас патриархом. Получив от моих родителей все бразды правления в доме, бабушка главной хозяйкой считала маму. Обо всем спрашивала ее совета и отчитывалась в делах.
Ее аккуратная, красиво застеленная постель стояла в укромном уголке столовой. Своей комнаты в нашей квартире у нее не было. И давно уже не было своего дома. После смерти и разорения дедушки она недолго оставалась хозяйкой домашнего очага. Ведь как только подрос мой папа, она уехала из Кролевца и жила все время у кого-нибудь из своих детей, точнее сказать – при ком-нибудь из них. Однако никогда бабушка не жаловалась на судьбу. Во всем ее поведении, во всей стати было столько спокойного достоинства, что даже я – ребенок – это чувствовала.
Однажды бабушка тяжело занемогла. Она готовила на кухне наши любимые котлеты, возилась с мясорубкой и, поскользнувшись на хорошо натертом паркетном полу, упала с высоты своего немаленького роста. Перелом шейки бедра в те годы не оперировали. Единственным лечением было лежание в постели. Но старые кости срастались тяжело. Бабушку отвезли к тете Ане Берман, на Кирочную, где ей могли отвести отдельную комнату. Там она уже не вставала с постели и вскоре скончалась.
Мамина мама – «Маленькая бабушка» – появилась у нас как-то тихо и незаметно. Шейна Берковна не меняла свое имя и отчество на русский лад, хотя ее родной город Глухов был русским городом. Она хорошо знала русский язык, но предпочитала говорить с моими родителями на идише.
Это была маленького роста худенькая старушка, очень молчаливая и скромно одетая. Она носила длинные юбки до самого пола с простыми сборками на талии. Всегда свежие блузочки с простым воротничком. Блузочки застегивались на множество мелких пуговичек и очень интересовали меня. Все из разных тканей в мелкий цветочек. Наверное, шились они из простого ситца, но всегда казались мне нарядными.
Мне помнится, у нее были светлые серые глаза с легкой голубизной. В отличие от темных, открытых, иногда почти озорных глаз большой бабушки – они были глубоко посаженные и грустные. Еще одна деталь ее внешности приводила меня в недоумение. Бабушка никогда не снимала своего головного платочка, плотно закрывающего лоб и просто повязанного под подбородком. Я ведь понятия не имела о том, что так покрывали голову по еврейскому обычаю верующие замужние женщины и вдовы. Большая бабушка этот обычай не соблюдала.
Я немного побаивалась бабушку Шейну. После смерти дедушки мама привезла ее из Киева, и ей отвели в нашей квартире маленькую комнатку, бывшую людскую. Там мама поставила, хоть и неширокую, но удобную кровать с тумбочкой, белый шкафчик с застекленными дверцами. В нем на полочках хранились бабушкино белье и одежда. Стояли две или три чайные чашки, сахарница, заварной чайник. Такую вот скромную, девичью мебель, дополняли стол, за которым бабушка молилась и ела, да еще два-три стула.
В этой комнатушке было две двери. Одна вела на кухню, другая в анфиладу всех остальных комнат. В комнатах бабушка появлялась редко. А на кухню выходила, чтобы готовить себе кошерную пищу. С нами вместе она не питалась.
«Маленькая бабушка» почти все время проводила в молитвах. Однажды, когда я осмелилась заглянуть к ней через кухонную дверь, увидела идеальной чистоты скатерть на столе и целую горку священных книг. В это время бабушка наклонилась над одной из них и тихо шептала молитву. А потом, к великому моему удивлению, вдруг быстро-быстро поплевала вокруг себя. Я поспешила закрыть дверь, понимая, что пришла в неурочный час. Но увиденное не давало мне покоя, пока бабушка Рися не объяснила, что так во время молитвы отпугивают нечистую силу. Сама она хорошо знала еврейский религиозный ритуал, но редко ходила в синагогу и дома тоже не молилась.
Мама нежно любила свою старенькую мать. Приходя с работы, всегда первым делом заглядывала в ее комнатку. Они беседовали друг с другом на идише. Вместе писали открытки бабушкиным детям, живущим в других городах. В такие тихие часы я любила и не боялась заходить в бабушкину комнату. Мама показывала мне странные незнакомые буквы, так не похожие на русские, и они меня очень занимали.
Я не помню, чтобы бабушка чем-нибудь болела. Ее маленький закрытый мир оберегал ее, наверное, от всяких внешних воздействий. Она умерла как праведница, тихо, в своей беленькой постельке, не жалуясь, что уходит. Спокойно, как положено праведникам, попрощалась с дочерью и, напутствуя ее, вспомнила обо всех нас.
Что-то неповторимо драгоценное унесли с собой обе эти женщины позапрошлого века. Обе свято хранили в себе бесконечную любовь к детям, преданность родным. Обе обладали умением безропотно нести на хрупких плечах тяготы своей личной ноши и меняющегося времени. А нам казалось, что бабушки попросту для того и созданы, чтобы бескорыстно и без остатка отдавать нам свою жизнь.
* * *
Незаметно пролетел год маминой практики в больнице. С хорошей характеристикой профессора Тургеля, у которого она стажировалась, мама отправилась в Городской отдел здравоохранения, чтобы получить назначение. На этот раз не на городской завод, а уже на периферию.
Ей предложили организовать зубоврачебный кабинет в небольшой амбулатории при одном из лесопильных заводов около станции Песь, по железной дороге Мга-Рыбинск. Она согласилась, понимая, что предложенное место находится не очень далеко от Ленинграда.
Это было интуитивное представление, но оно оказалось правильным. Папа, исколесивший немало российских железных дорог, точно не знал, где находится маленькая станция с таким странным названием: Песь. История говорит о том, что новую железнодорожную ветку, на которой станция находилась, проложили сравнительно недавно, в 1914 году, и назвали по имени рядом протекающей речки.
Железная дорога между большой узловой станцией Мга и городом Рыбинск строилась в огромном лесном крае, где кроме лесов было множество больших и малых озер. На стыке трех областей – Ленинградской, Вологодской и Новгородской – леса занимали 65% территории, имелись также огромные луга и болота.
Заповедный лес полнился всякой живностью, а лесозаготовки шли здесь с давних времен. На высоком левом берегу реки Песь веками стоял великолепный сосновый бор – неисчерпаемый источник драгоценной древесины.
В XIX веке основным рабочим инструментом лесорубов, как встарь, оставались топор и ручная пила. Строевой лес и бревна тогда еще не сплавляли, а возили на лошадях. Грузы так и шли в Петербург, пока не начали строить железнодорожную ветку. По мере того, как она строилась, возникали вдоль нее небольшие поселки, появлялись новые лесопильные производства.
Я нашла карту местности, где четко отмечены три станции, постепенно определившиеся по ходу прокладки железнодорожного пути: Анциферово, Песь и Хвойная. Вокруг станции Хвойной к концу двадцатых годов разросся обширный район. А Песь оставалась чем-то вроде полустанка, за которым в лесу стояли бараки для рабочих небольшого, но уже механизированного лесопильного завода.
В ленинградском городском отделе здравоохранения знали, что хотя в Песи существовала миниатюрная амбулатория, зубного врача там никогда не было. Рабочие заводского поселка, как в любой деревне, терпеливо жили с зубной болью, в крайних случаях отправлялись в Хвойнинский районный центр. Так что маме предстояло ехать в настоящую глушь. И времени на размышление не было.
Государственная машина быстро задвигалась, и вскоре мама выбирала оборудование для будущего зубоврачебного кабинета. Специальное кресло, все механические и электрические приборы, инструменты, материалы и медикаменты должны были прибыть к месту назначения багажом.
Родителям оставалось еще решить важный семейный вопрос: оставить меня с папой и бабушкой или отправить в Песь вместе с мамой.
Нужно ли говорить, как мне хотелось с ней поехать. Да и мама считала, что я еще мала, чтобы целый год оставаться без нее. После некоторых размышлений на семейном совете решили подыскать маме помощницу и отправить в Песь нас втроем. Довольно быстро нашлась по рекомендации симпатичная молодая девушка Лида, и папа, пользуясь своим богатым опытом путешественника, стал собирать нас с мамой в дорогу: как-никак ехать предстояло на целый год.
В Песи
Жизнь в Песи осталась ярким, необычайно цельным эпизодом в моей памяти о родителях и о моем детстве.
Мне было шесть лет. Я уже читала книги о путешествиях и понимала, что мы пускаемся в длинный, малоизвестный путь. Жалела, что еще не владею грамотностью настолько, чтобы вести путевой дневник, и готовилась запомнить все самое интересное, чтобы потом рассказать о наших приключениях. В том, что приключения нас уже ждут, я не сомневалась.
Пассажирский поезд, собранный из разномастных, довольно обшарпанных вагонов, не вызвал моего удивления. Он напоминал те паровые поезда, которые я знала по поездкам на дачу и на море. Узкие окошки закрывались и открывались с большим трудом. Всю дорогу пассажиров сопровождал сильный запах гари, а угольная пыль летела в эти окошки. Суровый на вид проводник нашего вагона еще носил военную форму, и я связала его облик со своим представлением о Гражданской войне.
Отчаянно высоко и пронзительно свистел пар, выходивший из тоненькой трубы паровоза, низко гудел из большой трубы паровозный гудок. На станции Песь курьерские поезда не останавливались, а пассажирские и почтовые стояли одну или две минуты, и то лишь по требованию, если начальник поезда знал, что есть билеты, выданные до Песи, и людям надо сойти.
Стояло, я думаю, самое начало лета. В окнах мелькали зеленые поля, бежал, оставаясь позади лес, виднелись огороды. Дорога шла по высокой насыпи, и маленькая станция Песь не имела никакой платформы. Эта насыпь с редкой порослью мелкой ромашки и травки «петушок-курочка», и особенно ступеньки вагона высоко над землей – вот что оказалось моим первым ярким впечатлением.
Стало очень страшно: а вдруг мы не успеем спуститься? Но помог проводник – он оказался совсем не строгим и даже улыбался – еще какие-то люди, не помню кто. Маму, меня и вещи сгрузили прямо на землю. Лида ловко спрыгнула сама, и поезд тронулся.
К нам подошел человек мрачного вида и представился фельдшером Гусаковым. Он взял наши чемоданы, мы куда-то пошли и вскоре уже сидели в телеге, полной душистого сена. Гусаков натянул вожжи, лошадка бодро побежала вдоль каких-то редких деревьев, заборов, потом мимо поля, стала подниматься на пригорок и остановилась около одноэтажного дома. Здесь находилась поселковая амбулатория, здесь же нам предстояло жить.
Всю дорогу мама и фельдшер разговаривали. Он недовольным голосом уверял маму, что много лет прекрасно обходился без врача и просил Ленинградский здравотдел никого ему не присылать. Мама что-то говорила и смеялась в ответ, а я пугалась: вдруг Гусаков отправит нас обратно, когда путешествие так необычно и весело началось.
А дальше моя память чередует разные картинки. Отрывки из будней, смены времен года, куски новых для меня пейзажей – все, что происходило в доме, на воле, в лесу – я до сих пор вижу. И вижу цветным. Зеленое поле, высокие столетние сосны с рыжими стволами, ослепительно белый снег и ярко-желтый песчаный высокий берег реки.
Какой это был волшебный, сказочный край! Как не сбиться, не уйти в сторону от рассказа о маме, описывая всю окружающую красоту? Могучие корни сосен, протянувшие свои старые лапы по земле. Их высокие стволы, такой толщины, что за ними можно полностью укрыться, играя в прятки. Зеленые верхушки других деревьев, упирающиеся в пронзительно-голубое небо. Густые заросли дубняка с массой желудей. Целые рощи орешника, с такими гроздьями орехов, что никакой карман не вместит. И белки, конечно. Зеленый бархатный мох под деревьями, а в нем ловко укрывшиеся светло-желтые маслята.
Речка Песь, которая дала название железнодорожной станции, текла внизу, поселок и наше жилье стояли на высоком берегу. Неширокое в этом месте русло казалось всегда темным оттого, что в беспокойной ряби воды отражалось не столько небо, сколько густой лес. Подробно всего не опишешь – ни летних гроз с ливнями, ни зимних метелей, ни прихода ранней весны с сосульками под крышей и громким щебетом птиц.
Вот наше обиталище – пристройка к домику больнички. Больничкой местные жители ласково называют амбулаторию. Дверь к нам открывается прямо с бокового фасада домика, сразу, с улицы в крошечный коридорчик, а из него ведет вход в первую комнату с печкой и плитой при ней. Здесь есть небольшой столик, кровать для Лиды. Маленькое оконце с видом во двор, где зеленеет огород.
Во второй комнате, что попросторнее, всю стену напротив окон занимает печка. Зимой она греет день и ночь. А летом работает только плита. У окон, с видом на луг и пешую дорогу, стоят письменный стол, у стены наши с мамой кровати. За пешей дорогой простирается большой зеленый луг, который зимой становится снежным полем. Тогда все бело кругом, потому что и стены комнаты, и печка тоже белые. А если за ночь наметет много снега, то утром стоит особая тишина, и нашу дверь надо откапывать. Для этого есть специальная лопата, и мне весело крутиться около Лиды, предлагая свою помощь.
Такие вот тихие, совершенно деревенские, как мне кажется, будни. Но когда я побываю в настоящей деревне, то увижу, что там тихих будней почти не бывает.
Однажды в ничем не примечательный зимний день я увидела в окне папу. Он шагал по протоптанной в снегу тропинке. И как оказалось, приехал нас навестить с ящиком конфет «Мишка на Севере» и с лыжами для меня.
Все время своей побывки учил на лыжах ходить. Тут все устраивалось донельзя просто. Лыжные ремни натягивались на валенки и крепко их держали. В любой мороз ногам было устойчиво и тепло. Но больших морозов я не припомню, а вот долгие, густые снега – не просто снежок на день другой, как бывает в городе, шли почти всю зиму.
В амбулаторию вход солидный, не то, что к нам. Высокое деревянное крыльцо со ступеньками и крытый железом козырек над крыльцом. В углу всегда стоит большой веник, чтобы отряхивать снег с валенок или сапог. В детстве сразу замечаешь то, что ближе тебе по росту.
Я не удивлялась, а только восхищалась тем, как моя мягкая, деликатная домашняя мама стала распоряжаться в отведенном для нее кабинете. Приказала добела выскоблить деревянный пол (потом потребовала его покрасить, чтобы легче и чище мылся), вымыть окна и двери, а на окна повесить белоснежные марлевые занавески.
Как только привезли со станции багаж, Гусаков с рабочими установили кресло с бормашиной и всю необходимую медицинскую мебель. Халаты у мамы были белоснежные, Лида их стирала и крахмалила так, что они хрустели. Когда все наладилось, появились больные, и начались мамины приемы, Гусаков тоже надевал белый халат и следил за очередью больных, а мне иногда разрешалось тихонько сидеть в углу на маленькой скамеечке и смотреть, как мама работает. Так она выполнила когда-то данное мне обещание. И я постепенно увидела все знакомые мне зубоврачебные инструменты в деле.
Недалеко от нас, в нескольких километрах находилась деревня, а может, и не одна. Наверное, оттуда привозили или приносили нам молоко, сметану, яйца. Картошки и капусты было вдоволь, жаль, не помню, откуда брался хлеб – на нашей плите его не испечь.
Еще одно ясное и яркое воспоминание: как жарким летом напротив наших окон на лугу женщины из деревни белили на солнце холсты. Зеленая трава покрывалась ровными рядами серых полотнищ, которые прямо на глазах светлели от горячего солнца.
Наверное, ткали это полотно в деревне. Может быть, и хлеб пекли там для нас. Но, скорее всего, на весь поселок его привозили из районной пекарни. Бывало, деревенские ребята приносили ягоды, но мы и сами с Лидой или с Надей, когда она приезжала на каникулы, ходили собирать ягоды и грибы в лесу. Только на болота, где росли клюква и морошка, меня не брали.
Очень скоро после нашего приезда и начала работы зубоврачебного кабинета к маме стали ходить из поселка рабочие, их жены и детишки. В поселке бывали не только зубные болезни. Иногда обращались к маме с болью в желудке, с небольшими ранениями, полученными на заводе, а также с детскими болезнями и с недомоганиями стариков. В более сложных случаях мама и Гусаков отправляли заболевших в районную больницу.
К приезжей докторше (именно так: «докторшей» называли в поселке маму) прониклись уважением и полным доверием. Крестьяне приезжали на телегах со своими больными. Однажды сам секретарь райкома партии прибыл на автомобиле. У него был страшный флюс. Он полагал, что лучше довериться врачу из Ленинграда, чем своим районным эскулапам.
Об этом выдающемся событии еще долго рассказывали в поселке. Вспоминали, как маленькой докторше пришлось встать на подставку для ног пациентов прямо в зубоврачебном кресле и собственной коленкой придавить большого начальника: этот огромный, по сравнению с маленькой мамой, мужчина дрожал от страха и не давал удалить больной зуб.
Лесопильный завод и поселок, где жили лесорубы с семьями, находились недалеко от амбулатории. Мне не запрещали, но и не советовали туда ходить. Возможно, мама не хотела, чтобы я побывала в бараках, где быт не отличался благополучием, и дети воспитывались иначе, чем я. Но недобрый случай помог моему невольному знакомству с жизнью рабочих и с ребятишками.
Однажды летом совсем рядом с нашим домом случился пожар. Был поздний вечер. Я уже спала и спросонья никак не могла понять, что случилось. Почему меня разбудили, спешно одели и вывели из дому. Странное мерцание стояло в воздухе: будто кругом светло, но воздух окрашен огненно-красным, странно движущимся светом. Это был отсвет огня, который бушевал под крышей одного из бараков.
Рабочие ждали пожарных, а пока таскали с речки ведра с водой. На земле я увидела грустную картину: узлы с одеждой, подушки, перины и самовары. Все, что успели выбросить из окон и вынести из квартир. Рядом с пожитками сидели женщины и плакали, на руках у них кричали детишки, те, кто постарше, крутились около мужчин. В воздухе стоял густой жар от огня. Мама прихватила с собой сумку с медикаментами, смотрела, нет ли среди мужчин обожженных, кому из женщин нужна помощь. Лида крепко держала меня за руку. И как только приехали пожарные, нас с ней отправили домой.
Пожар потушили. Погорельцев временно пристроили в другие бараки. И чуть ли не на завтра начали строить жилье, благо строительный лес был под рукой. Жизнь потекла по своему будничному руслу. За весь год спокойствие в поселке нарушило только еще одно грустное происшествие: на заводе молодому рабочему электрической пилой отрезало руку. Его везли на станцию как раз мимо нашего дома, и целая толпа с бодрящими криками и уговорами провожала его.
Тихие, уютные вечера помнятся мне в нашей пристройке. Из Ленинграда мы привезли книжки, кое-какие игры, так что мне всегда было чем заняться. Лида уходила в поселок к молодежи. Мама сидела за своим столом, разбирала амбулаторные карточки, что-то писала в тетради. Это была та тетрадь с воспоминаниями, которую мы нашли после ее кончины. Описывая свои детство и юность после окончания гимназии и недолгого возвращения из Киева в Глухов, она прервала свой рассказ описанием настроения во время работы на периферии. Из этих строк видно, как много дала ей жизнь при маленькой больничке на лесопильном заводе:
«От того времени до настоящего момента, когда я пишу эти строки, прошло двадцать с лишним лет. Последовательно продолжать мое жизнеописание, которое для меня не лишено особого содержания, я надеюсь с течением времени.
Обстановка, которая меня расположила к этому и дала мне исключительную ясность мыслей и воспоминаний, – меняется. Сейчас я хочу только отметить, что мое настроение хорошее, бодрое, и порой мне кажется, что меня не отделяет так много лет от той, какой я была в юности. Правда, это настроение вернулось ко мне недавно, с тех пор, как я себя нашла, потому что целый ряд лет я как будто где-то затерялась, но об этом впереди…»
Многоточие за последними словами текста, говорит о многом. Записки начаты в апреле 1931 года. До окончания срока службы в Песи оставался месяц или два. Мама не сумела по какой-то причине продолжить свои воспоминания, и никто не знает, о чем еще собиралась она написать. Возможно, о тех прожитых годах, когда она еще не могла проявить себя как врач. В Песи она была счастлива, и убедилась в том, что ее юношеские мечты о служении человечеству могут найти воплощение только в профессиональном призвании.
Но вот пришло время возвращаться домой в Ленинград. Мне жаль было оставлять нашу милую комнатку с печкой, вольный лесной воздух, прогулки в лес и на речку. А мама радовалась успешному окончанию трудного года и возможности снова оказаться в кругу семьи, где все с нетерпением нас ждали.
Много нашлось рассказов, воспоминаний о веселых и грустных сторонах периферийного быта. Особенно смешно мама изображала Гусакова, с его историческим заявлением: «Говорил я: не надо, не надо нам дохтура! Мы сами справляемся: от головы и от живота даем натриум бикарбоникум (то есть, питьевую соду). И все «у их» проходит!» О себе Гусаков говорил почему-то во множественном числе: «мы даем»… Полудеревенский северный говорок фельдшера мама передавала артистически.
Из Песи в Ленинград ей приходили письма, трогательные посылки. Женщина из соседней деревни, спасенная мамой от заражения крови, несколько лет подряд зимой присылала нам любовно обшитый холстом ящичек. Там неизменно лежал мешочек с клюквой и несколько отбеленных на солнышке домотканых полотенец из сурового полотна. На листочке из школьной тетради всегда писались трогательные слова вечной благодарности доктору.
Вскоре после возвращения мама получила место хирурга-стоматолога в Центральной поликлинике ленинградского Стоматологического института на Невском проспекте. Так завершился период восстановления ее врачебной профессии.
* * *
Вот я и подошла в своем рассказе ко времени, которое принято называть двумя словами, много значащими для людей моего поколения: «тридцатые годы». Об этом периоде советской истории давно существует большая литература. И мне незачем выступать со своими рассказами о том, что происходило в стране.
Разве можно добавить к уже написанному что-то, равное по значению «Архипелагу ГУЛАГ», романам, пьесам и повестям Булгакова или к двум изданиям «Дневников» Корнея Ивановича Чуковского?
Я могу рассказать только о том, что происходило в нашей семье после того, как мы с мамой вернулись из Песи. Тогда мои родители самым непосредственным образом познакомились с тем, что принесла крестьянам коллективизация.
Однажды у нас дома появилась пожилая симпатичная женщина Степанида Матвеевна, осталась жить и помогать маме, занятой в поликлинике, справляться с домашним хозяйством.
Чтобы избежать высылки в Сибирь, она ночью, тайком покинула свой дом с узелком носильных вещей. Дочь Настя, которая ее привела, и сын давно ушли из деревни, работали в Ленинграде на заводе и жили в общежитиях. Об отце Настя не рассказывала, да и спрашивать ее мама не стала. Мои родители знали, что тогда многие крестьяне, кормильцы своих семей, скрывались, спасаясь от ссылки. История Степаниды Матвеевны ничем не отличалась от тысячи таких же историй крестьянских семей, с хорошим хозяйством, доброй скотиной – со всем, чем могут быть богаты люди на земле, если работают от зари до зари, чтобы иметь сытый дом для семьи.
Беда к ним пришла еще тогда, когда потребовали отдать весь только что намолоченный хлеб по продразверстке. Потом стали звать в колхоз, а потом и силой загонять. Хозяин – муж Степаниды Матвеевны – и несколько дворов соседей отказались. Все только что отстроились. Готовились жить в новых домах. Пришлось, однако, Степаниде Матвеевне оставить не только дом, но и все нажитое годами добро, а чтобы сохранить жизнь, искать в городе место домработницы.
Я, разумеется, поинтересовалась происхождением слова «домработница», и выяснила, что оно появилось только после Октябрьского переворота 1917 года. До того, как утверждает Интернет, бытовали такие слова, как, например, «экономка», «гувернантка», «горничная». Длинное определение новой профессии из двух слов «Домашняя работница» в революционном языке сократили до одного – «домработница» – по тем же правилам революционного новояза, что «Домком», «Санупр», «ЖАКТ», «Женотдел» и многие другие.
Моим родителям пришлось немало похлопотать, чтобы сделать жизнь Степаниды Матвеевны в нашей семье законной.
В Ленинграде существовала особенно строгая система прописки, проверки паспортов. У крестьян паспортов, как говорили в деревне, «отродясь не бывало». Но с тех пор, как появление в городе домашних работниц приняло почти массовый характер, их вместе с парикмахерами и работниками общественных прачечных объединяли в так называемых «группкомах». Это был в некотором роде профсоюз, который вместо паспортов выдавал домашним работницам профсоюзные книжки. Требовалось только найти подходящую парикмахерскую.
Хозяева заключали с домработницами договор о найме и в профсоюзных книжках ежемесячно фиксировали выдачу зарплаты, а домашние работницы там же расписывались в ее получении. При такой системе социальных отношений жилищные конторы законно прописывали домработниц в ленинградских квартирах.
В искусственно созданной ситуации гражданского бесправия находились люди, готовые помочь тем, кто искал возможность найти место службы, где-то «зацепиться», чтобы избежать клейма «лишенец» или звания «из бывших». Может быть, от той поры остался в нашей семье очень похожий на правду анекдот, рисующий будни одного из таких пристанищ – парикмахерской. Их еще не успели сделать государственными.
Заведующий (бывший владелец) громким голосом возвещает сидящей в уголке машинистке с пишущей машинкой на столике: «Евгения Борисовна, – говорит он, – следите за порядком в зале!» (Имеется в виду средних размеров комната, где устроена парикмахерская и помещаются два кресла для клиентов и несколько стульев для ожидающих). Заведующий продолжает на тех же высоких нотах: «Я иду в ТРЭСТ (то есть банно-прачечный комбинат), а оттуда – в ИСПОЛКОМ (то есть профсоюзный участок, к которому приписана парикмахерская)».
Евгения Борисовна, которую соседи давно знаю как уже стареющую, но все еще очень хорошенькую Женю, одетую и причесанную в стиле начала двадцатых годов (но здесь она Евгения Борисовна), понимающе кивает: «Все будет в порядке», – говорит она, проглатывая неуместное слово «хозяин». Все – спокойны.
Но я отвлеклась от истории нашей гостьи. Степанида Матвеевна была неграмотной, каждый месяц, получая «жалованье» (слово «зарплата» она не признавала), ставила крестик в нужной графе своей профсоюзной книжки, тоже прикрепленной к какой-то парикмахерской.
Она вообще оказалась удивительно нетронутой образованием и городской культурой. Я уверена, что маме пришлось нелегко при заполнении необходимых тогда анкет, без которых никого и никуда не принимали. Бумажонка с вопросами и ответами заменяла живого человека хранителям общественного порядка.
Бабушка Матвеевна или просто бабушка, как стали мы вскоре называть легко прижившуюся у нас Степаниду Матвеевну, долго не могла взять в толк, чего от нее хотят, если спрашивают, откуда она, где и когда родилась. Ответ всегда следовал один: «Скобские мы, скобари – вон откудова!» «Скобскими», «скобарями» шутливо называли жителей бывшей Псковской губернии, и такие прозвища не считались оскорбительными.
Своего года рождения эта наша бабушка и вовсе не знала, говорила всегда одно: «В Петровом посту родивши, а года никакого не знаю». Диалект у нее был до того забавный, что мы ее поговорки любили, шутя, повторять. Вместо «Ч» говорила она «Ц» – цокала, и сама над этим смеялась, приговаривая: «У нас утром цай, вецером цай, а посередь дня – чикорий». Спрашивала, бывало: «Цаво тябе? Хоцца луцку, али цесноцку?» Меня она ласково называла Елоцкой. Маму мою вместо трудно для нее произносимой Эмилии Ильинишны – «МилинИшной». Папа имел очень почетное звание «Отец».
Я поинтересовалась происхождением этого диалекта и узнала, что на Псковщине до сих пор сохранилось «цоканье», идущее от древних контактов псковитян с финнами и близкими к ним народами, например – их ближайшими западными соседями – эстонцами.
Но самыми удивительными казались нам бабушкины наряды. Когда Настя привезла из деревни узел с ее вещами, мы увидели, какая Матвеевна рукодельница. Все на ней было шито своими руками – и рубахи, и блузы, и клетчатые красивые юбки из материи собственного тканья.
С каким вкусом подбирались в них сочетания, которые я до сих пор помню! Красный цвет красиво сочетался с синим. Коричневый тон гармонировал с зеленым или нежно-желтым. Нитки красились природными красителями: свеклой, луком, цветами пижмы. Кружева на подзорах и на исподних юбках и рубахах вязались вручную разными узорами.
Но чего я совершенно не помню, а, может быть, я и не знала того, как в семье возникла идея провести отпуск в деревне, у родственников бабушки.
Помню только, что мы довольно быстро собрались и втроем с мамой и папой туда отправились. Может быть, это она, зная, что поездка и житье в деревне будет недорогими, надоумила родителей поехать в ее края. Но самое главное заключалось в том, что бабушка надеялась с папиной помощью узнать что-нибудь об оставленном ею доме и о судьбе ее деревни – соседней с той, куда мы ехали отдыхать.
Название у этой деревни оказалось замечательное: «Зубова гора». На самой подробной карте Псковской области я нашла много схожих названий: есть там Гусева гора, Попкова гора, Шилова гора и даже Горушка. Но, видимо, наша Зубова гора размером не вышла, и на карту не попала. К тому же я очень хорошо помню, что располагалась она вовсе не на горе, а на вполне ровном месте: небольшая деревенька с одной широкой улицей и рядами изб по обеим сторонам.
Где же она все-таки находилась? Я вспомнила о бабушкином диалекте с характерным «цоканьем» и предположила, что деревня стояла где-то в северо-западной части Псковской области, скорее всего поблизости от города Остров, куда из Ленинграда шел прямой поезд. Наверное, на более сложный переезд папа и не согласился бы.
Так же, как после жизни в Песи, после нашего месяца в деревне в памяти моей остались живые картинки. Аккуратный дом наших хозяев – дяди Вани и тети Маруси, чистая горница с хозяйской постелью и горой подушек на ней, большой стол с лавками, набело выскобленный пол, веселенькие ситцевые занавески на окнах.
Главное место занимала кормилица и хранительница тепла – русская печь. Нутро ее было так велико и просторно, что Маруся умела в субботний день даже мыться в ней, а во время грозы забиралась туда спасаться, хотя мой папа убеждал ее, что опаснее всего находиться во время грозы именно в печи.
И вот началась наша жизнь в деревне. Хозяева уступили нам горницу, а сами спали в маленькой светелке – комнатке при сенях. Ох, и хороши были эти сени! Чего только там не было – весь крестьянский инвентарь, чистый, ухоженный, готовый к употреблению стоял не в сарае, а в сенях избы. Косы, вилы, лопаты, разные ведра и кадки, пустые и полные бочки, веревки разного сорта – все притягивало мой глаз.
Здесь мне все разрешалось потрогать руками, не то, что когда-то в керосиновой лавке. Я повзрослела, но детское любопытство еще не ушло. На почетном месте в избе красовалась прялка. Пряли на ней только зимой. Но я так заинтересовалась прялкой, что однажды Маруся принесла откуда-то льняную кудель и с поразившей меня ловкостью показала, как крутится веретено и сучится нитка.
Вся Зубова гора с ее жителями держалась какое-то время в стороне от колхозной кампании. Ваня и Маруся считались «единоличниками». Хлеб они сеяли на своем наделе большого поля, траву косили на участке недалеко от дома. В чистом хлеву стояла у Маруси корова, было отдельное место для лошади, тут же ходили десятка два, наверное, кур с петухом. Небольшая «сараЮшка» для птицы поместилась при большом сарае. На задах двора расположился огород.
Мне все нравилось у Вани и Маруси. И родителям, казалось мне, тоже. Папа поразил меня тем, как легко он приспособился к деревенской жизни. Никак не могла я себе представить, что наш аккуратист и хранитель городского порядка будет легко ходить босиком, брать и носить воду из колодца и меня приучать к уважению крестьянских обычаев. Однажды дядя Ваня дал ему косу и взял с собой на луг – покосить. Я была в ужасе: видела не раз, как Ваня точит острую косу. Сумеет ли папа с ней справиться?
Мы, разумеется, привезли нашим хозяевам кое-что из продуктов и городской еды, а кроме того – карамельки и папиросы, особенно ценные для Вани. Он их берег и только иногда, сидя рядом с папой на крылечке, оставлял свой табак и покуривал по-городскому.
Особенно увлекательной была для меня еда из общей посуды. Обедали рано, потому что семья вставала чуть свет. К обеду Маруся ставила на стол большую, гладко отполированную деревянную миску. Такие видела я до того только на Кузнечном рынке, где торговали ложками и мисками, бочками и корытцами для рубки и квашения капусты. Из Марусиной миски мы ели мурцовку из кислого молока с вареной картошкой, зеленым луком и огурцом прямо с огорода. И папа с мамой, и я старались есть не по-городскому, а «кушать», как едят в деревне – медленно, истово, аккуратно пронося ложку с похлебкой над ломтем теплого хлеба в левой руке.
Вот начало июня, Троицын день – один из самых красивых деревенских праздников. В понедельник после него по народной примете должна установиться хорошая, июньская погода. А в субботу, накануне Троицы Маруся ведет нас с мамой в ближайший лесок ломать березу. Мама не решается ломать молодое дерево, она принимает от нас ветки, и мы, нагруженные, возвращаемся, чтобы украсить избу.
Разбросать березку надо по чисто вымытому полу, повесить около окон, и даже приткнуть за образа. Июнь еще называют в деревне зелеными святками, потому что в Троицу девушки плетут из цветов и березки венки, гадают на женихов. Этого гаданья я не видела. Меня не отпустили к речке, куда невесты бросают венки. Зато вечером мы ходили с Марусей к соседям на посиделки с песнями. Хор женщин пел необычайно слаженно и красиво. Без всяких репетиций и специальной подготовки. Пели как дышали, лишь иногда – взявшись под руки и покачивая головой.
Принимали нас в любой избе удивительно радушно. Знали, что Марусины гости приехали из Ленинграда – в деревне обо всем быстро узнают. Но никогда мы не чувствовали на себе недобрых глаз, не слыхали нескромных вопросов. Не интересовались соседи, какого мы роду-племени, и ни малейших признаков отчуждения не выказали ни разу. А папа с дядей Ваней часто сидели на скамеечке у дома и, покуривая, разговаривали о чем-то по-мужски. Наверное, в один из таких разговоров решали, как лучше выполнить бабушкину задумку – повидать ее «кулацкую» деревню и оставленный дом, не вызывая любопытства наших деревенских соседей.
Однажды утром, незадолго до отъезда домой, папа взял меня с собой на прогулку. Мы и раньше ходили с ним в лес. Теперь он сказал, что мы на прощанье пойдем далеко. Сам надел свои летние туфли, проверил, хорошо ли надеты и застегнуты мои сандалии, велел взять с собой что-нибудь на случай дождя, и мы отправились.
Он шагал так уверенно, как будто хорошо знал, куда идет. Мы долго двигались по широкой дороге, прошли большой луг, берег речки, вошли в густой еловый лес и свернули на широкую тропку. Постепенно она вывела нас на невысокий подъем, а за ним стояли несколько изб. Заборы, сараи за избами – все было почти новое, бревна и доски еще не успели стать серыми от времени и дождей.
Вокруг не было ни души. Ни людей, ни животных. Еще и улица не образовалась, новенькие дома стояли все по одну сторону дороги, по которой, наверное, возили строевой лес (в Песи я уже видела, как начинали строиться). Это и была бабушкина не родившаяся деревня.
Когда мы вернулись, папа с Ваней долго разговаривали. Ваня рассказал, что крестьянам из Зубовой горы предлагали переселяться в пустые дома и переходить уже оттуда в колхоз. Но никто на это не согласился. И в дома не вселялись, и в колхоз не пошли. Решили, что отказываться будут, сколько сил хватит.
* * *
Когда мы вернулись из деревни домой, меня увлекли совсем другие события и впечатления. До осени и до начала учебного года оставалось не так уж много времени. Надя окончила нашу «Первую единую трудовую школу», созданную на месте бывшей немецкой гимназии, а мне пришла пора в нее поступать.
Надя еще в последнем классе начала свою трудовую жизнь на фабрике «Светоч», где служил папа. Надела красную косынку работницы и стала упаковщицей. Она мечтала об архитектурном факультете, но в институты принимали только рабочую молодежь.
Заниматься физическим трудом стало модно. Надины школьные друзья организовали летом рабочую коммуну: в деревне на станции Ушаки. Недалеко от Ленинграда в семье Надиной соученицы Шуры Магазенковой бывшие школьники занимались крестьянским трудом вместе с родителями Шуры. Однажды и меня сестра взяла с собой в коммуну, и я, очень довольная этим, прожила рядом с коммунарами несколько дней.
Родителям не пришлось выбирать для меня характер образования так, как это делалось в Надином детстве. После ликвидации гимназий и введения всеобщего обязательного обучения школа на Разъезжей улице автоматически стала моей первой школой. Я прошла через все Сциллы и Харибды тогдашней педагогической системы: опыты и тесты педологов, никому не нужный нулевой класс и перевод сразу во второй.
Мне было скучно в школе. Коллектив с шумными мероприятиями и вовсе не привлекал. Хотя мое домашнее воспитание не отличалось такой разносторонностью, как у Нади в московские двадцатые годы, все же в нулевом или в первом классе делать мне было нечего. Я уже легко читала «толстые» книжки, интересовалась природой, древней историей. Только чистописание не давалось мне совершенно. Чернильные кляксы просто преследовали и отвращали от уроков письма. Остальное учение давалось слишком легко, и школу я скоро невзлюбила.
Как хорошо и спокойно жилось дома, где можно было читать и заниматься тем, что хотелось. Прекрасный коллектив составляли мы вдвоем с Ниночкой Напалковой, младшей сестренкой Надиного одноклассника Володи. Она любила приходить ко мне в гости и слушать мои рассказы о прочитанных книгах. Особенно ей нравились «Охотники за микробами» Поля де Крюи. Мы сидели за моим столиком и бесконечно рассматривали иллюстрации в этой книге. В школе же царил вечный шум и крик, озорные мальчишки постоянно норовили ударить, подставить ножку. Школьный коллектив был слишком большой и шумный.
Гимназическую форму в советской школе давно отменили, а новой формы еще не придумали. Тем не менее, способ унификации массы школьной детворы разного происхождения и социального статуса чиновники от образования нашли. Мы обязаны были надевать черные или темно синие сатиновые халатики, скрывающие домашнюю одежду. В них мы все делались одинаково похожими на каких-то рабочих-карликов. Это была совершенно унылая картина: много-много безликих, одинаково темных маленьких фигурок в коридорах и классах.
Но это было еще не самое страшное. Особенно меня удручали унизительные проверки на чистоту. Каждое утро медицинская сестра или ученица с повязкой санитара на рукаве бесцеремонно отворачивали у всех воротничок платья или рубашки у мальчиков, рассматривая, чисто ли вымыта шея. Почти ежедневно у всех осматривали головы на предмет педикулеза. Хотелось плакать, когда кого-нибудь – мальчика или девочку – специально приглашенный парикмахер внезапно стриг «наголо» без разрешения родителей.
Во многих школах, действительно, свирепствовали педикулёз и чесотка, но такие жестокие процедуры с самого утра отравляли охоту к занятиям, да и вообще желание учиться в школе. Видя мои страдания, мама решила отвести меня в парикмахерскую, чтобы мне деликатно сделали самую короткую прическу, по тогдашней моде названную «под мальчика». Парикмахер был очень вежливый, даже показался мне заботливым. Он артистически выполнил мамину просьбу. Мою голову, наконец, оставили в покое.
Я странно чувствовала себя в мальчишеском обличье, но дело было сделано, к тому же, неожиданно именно оно подарило мне дружбу с Изей Шварцем, виртуозом-пианистом нашей школы. У него не было соседа по парте, и когда я в растерянности остановилась в дверях незнакомого второго класса, предложил сесть рядом с ним. Я обрадовалась и села. Но на близком расстоянии моя прическа обманула добряка Изю.
«У-у, ты, оказывается, девчонка, – разочарованно протянул он, внимательно поглядев на меня, – ну ладно, давай дружить, что ли…»
На большой перемене мы бегали в актовый зал, где Изя импровизировал на рояле, собирая вокруг толпу ребят. Это были лучшие минуты в моей тоскливой школьной жизни. Кроме музыки у меня появился товарищ.
У папы с мамой не хватало времени для того, чтобы пристально интересоваться, чем я занята в школе. Они мне полностью доверяли и редко бывали на родительских собраниях. В семье были другие заботы. Надя собралась выйти замуж. В городе было неспокойно. Участились аресты.
* * *
Рано поразившие Ленинград репрессии непосредственно не коснулись нашей семьи. Я не рассказываю здесь о «Философских пароходах», на которых еще в 1922 году репрессивные органы успели выдворить за границу, как ненужный хлам, блистательных философов, дворян и нежелательных власти интеллектуалов.
Не пересказываю и так называемое «Дело лицеистов», сфабрикованное ОГПУ, чтобы уничтожить цвет российской юриспруденции, будущую министерскую элиту, получившую прекрасное образование в «Александровском лицее» – наследнике Царскосельского лицея.
Конечно, мои родители не могли не знать об этих и о новых арестах и ссылках. Мне однажды очень серьезно папа объяснил, что говорить об этом вслух, особенно с посторонними, категорически нельзя, и я добросовестно выполняла это наставление. Старшие тоже молчали. Но для них это молчание не означало полной непричастности к судьбе арестованных, особенно родственников. Просто мама с папой говорили о том, кому и как надо помочь, тихо, за закрытой дверью, а потом мама принималась действовать. Частенько она и меня включала в круг своих дел.
Я всегда присутствовала при том, как она посылала куда-то на Север письма и посылки. Папиного племянника Яшу Бакалейникова расстреляли как троцкиста, и мама сразу после ареста начала заботиться о его жене Клаве. Меня она брала с собой, когда навещала Клаву в квартирке на Троицкой улице.
Клава, как жена врага народа, направлялась в ссылку в какой-то северный городишко, и мама собирала ее в дальнюю дорогу. Это страшное понятие «враг народа» было совсем не новым. Оно появилось в советском карательном обиходе гораздо раньше 1930-х годов, и даже было официально введено в обращение еще в декабре 1917 года одним из первых постановлений Совета народных комиссаров. Теперь ему просто дали новый ход.
Мне очень нравилась Клава. Все в нашей семье ее любили. Когда она уехала, я скучала по ней ее и всегда ходила с мамой на почту. Размер посылок строго регламентировался, и мы старались впихнуть в небольшой ящичек, обшитый холстом, какую-нибудь теплую вещь, репчатый лук и чеснок, карамельки вместо сахара, который посылать не разрешалось, а также немного писчей бумаги и чернильный карандаш. Ссыльным разрешалось писать письма только такими карандашами.
Другие посылки с вещами мы регулярно посылали в Витебск. Там жил мамин младший брат дядя Урий с женой и двумя детьми. Он работал кассиром на железной дороге. Прокормить и особенно одеть семью на свою мизерную зарплату он не мог. Обычно, весной или осенью, мы с мамой открывали на кухне еще один старинный сундук. Он был такой большой, что на его крышке я могла лежать во весь рост. Туда складывалась обычно вполне пригодная одежда, которую у нас уже не носили. Мы с мамой выбирали вещи, подходящие по сезону, и отправляли в Витебск. Дядя Урий писал маме трогательные письма своим мелким, но очень ясным бухгалтерским почерком, и подробно рассказывал о жизни своей семьи, которую нежно любил. К счастью, репрессии обошли ее стороной.
Гораздо хуже сложилась судьба других близких родственников. Мужа маминой двоюродной сестры, Илью Григорьевича Даумана, расстреляли. Тетя Лена и он в начале тридцатых годов приехали из Харбина по приглашению советского правительства. Илья Григорьевич был каким-то ценным специалистом. Поселились в Ленинграде, недалеко от нас, на Литейном проспекте. Вскоре их стало трое: родилась дочка Ирочка. Арестовали Илью Григорьевича, как бывало, внезапно ночью, и вскоре расстреляли, якобы как японского шпиона. Сразу же после ареста мужа слабенькую, хрупкую тетю Лену сослали вместе с крошечным ребенком. Она попала в глухой район торфяных разработок, где для нее, первоклассной стенографистки и машинистки, не было ни жилья, ни работы.
Мама и папа долго хлопотали, чтобы тетю переселили в город или городской поселок ближе к Ленинграду. Они обращались в письмах к каким-то ответственным работникам с просьбой предоставить квартиру и работу первоклассному специалисту с маленьким ребенком, и, думаю, это было не совсем безопасно: хлопотать за жену расстрелянного мужа. В конце концов, несчастной женщине разрешили поселиться в Волхове, потом в Новгороде. Мама долгие годы помогала сестре, пока та уже с взрослой дочерью не вернулась в Ленинград.
Дядю Авраама и тетю Аню, папину старшую сестру (у них папа когда-то работал мальчиком в аптеке), выслали в Караганду. В чем их обвиняли, я не знаю. Ссыльные жили в Казахстане в ужасных условиях, голодали и болели, а Караганда вообще имела печальную славу совершенно гибельного места, где держали в тюрьме, лагерях или на вечном поселении людей, арестованных в столице и других крупных городах. Здесь приводили в исполнение самые жестокие приговоры ГПУ. Дядя так и сложил кости на чужбине, а тетя Аня вернулась через несколько лет старухой – доживать свои печальные годы в Ленинграде.
Арестовали друга нашей семьи, художника Александра Семеновича Шендерова. У него в Институте инженеров коммунального строительства на архитектурном факультете училась Надя. Телефон его нашли при обыске в записной книжке одного из арестованных ленинградских музыкантов. И этого оказалось достаточно, чтобы лишить человека свободы на несколько лет.
В это время доносительство приняло массовый характер. За доносами следовали аресты. В обществе выходили на поверхность самые низменные побуждения тех, кто считал себя обделенными жизненными благами. Доносили, чтобы получить квартиру арестованного, чтобы занять его должность, даже расправиться с соперником в любви.
В это страшное время, когда все собирались дома за столом, никогда не говорили о политике. Папа исправно следил за сообщениями газет и радио. Страшные сообщения о процессах – о публичных судах над врагами народа, которые транслировались по радио, повергали в страх и недоумение. Трудно было поверить, что уважаемые обществом специалисты могли стать врагами и сами признавались в этом.
В людях росли тревога и отчаяние, мучительные мысли о том, кого еще выставят на поругание, будут судить и приговорят к расстрелу. Но родители предпочитали ни с кем не делиться своими мыслями. Как и многие люди их круга, они чувствовали себя обреченными на непротивление. И, тысячи таких, как они, каждую ночь ждали ареста и держали наготове чемоданчик со всем необходим для тюрьмы.
Но жизнь продолжалась, существовали и другие радиопередачи, кроме скудных, прошедших цензуру сообщений или советских песен и кантат, изливавшихся из централизованной трансляционной сети. Я прекрасно помню, как по нашему пятиламповому радиоприемнику, давно приобретенному папой, можно было слушать несколько западноевропейских радиостанций. Из Германии, например, часто передавали эстрадные концерты, опереточные куплеты и что-то еще в этом роде. Ясно слышались смех и крики довольной немецкой публики. В школе мы учили немецкий, но я понимала лишь отдельные слова, и то не все. Папа не знал немецкого языка, но идиш, на котором дома он только иногда говорил с бабушкой, позволял ему понимать больше. Однажды мы не поверили своим ушам, когда услышали резкий кричащий голос Гитлера.
Папа не любил эти немецкие трансляции и в основном слушал классическую музыку, которую часто передавали Москва и Ленинград. С ранних лет он приучал меня любить и, главное, узнавать на слух любимые симфонические и фортепианные произведения. Его вкусы и предпочтения в искусстве вообще остаются для меня некоторой загадкой. Откуда он так хорошо знал музыку или лучшие спектакли и театральных актеров?
Конечно, они с мамой ходили в филармонию, в Александринский театр и Большой драматический. Реже бывали в Мариинском оперном театре. Когда я сама в старших классах школы увлеклась театром, я с некоторым удивлением заметила, что имена таких корифеев ленинградского театра, как Илларион Николаевич Певцов, Юрий Михайлович Юрьев и Елизавета Ивановна Тиме, я рано услышала именно от папы. О каждом из них он говорил, хорошо зная их лучшие роли в знаменитых тогда спектаклях.
В Доме писателей в Коктебеле, на восточном берегу Крыма, куда он повез нас с мамой в 1934 году, оказалось, что папа не понаслышке знал некоторых артистов Большого драматического театра, например, Анну Борисовну Никритину и Ольгу Георгиевну Казико. Никритина отдыхала со своим мужем, известным писателем Анатолием Борисовичем Мариенгофом, очень нервным господином, и их сыном Кирой. У них была своя артистическая компания.
Папа проводил много часов в интересных беседах с Василием Алексеевичем Десницким, ученым-литературоведом. Наши комнаты были рядом. Папа и Василий Алексеевич вместе плавали в знаменитую сердоликовую бухту за камнями. Папа нырял глубоко под воду без всяких масок и ластов. Меня он сознательно не учил плавать. Думаю, что боялся, как бы я не надумала поплавать одна, без взрослых. Все Десницкие были очень милой семьей. Кратковременная курортная дружба папы с профессором украшала всю нашу поездку.
Папа явно интересовался яркими людьми, в общении с которыми мог что-то для себя почерпнуть. Читая опубликованную в 1997 году «Телефонную книжку» Евгения Львовича Шварца, я наткнулась на знакомое имя, часто звучавшее в нашей семье Это было имя известного ленинградского хирурга Ивана Ивановича Грекова. Папа сблизился с ним после небольшой операции грыжи, которую Иван Иванович сделал ему с совершенным блеском. Из воспоминаний Евгения Шварца, опубликованных в конце 1990-х годов, я узнала, какой разносторонний человек был профессор Греков.
Квартира Ивана Ивановича находилась на углу бывшей Ямской улицы и Кузнечного переулка – по соседству с нашим Загородным проспектом. Он любил и знал искусство и собирал в своем гостеприимном доме интересных людей. Папа там бывал и ему, несомненно, импонировал такой круг общения. Другой известный в Ленинграде доктор Конухес, друг и врач семьи Чуковских, был также и нашим домашним детским врачом. Он продолжал приходить к нам, хотя я уже давно вышла из младенческого возраста. Долгие беседы с родителями, я это понимала, касались совсем не детских болезней. В доверительных разговорах близкие по духу люди находили для себя отдушину, освежающую мрачную атмосферу всеобщего страха и политического лицемерия.
У мамы после того, как она начала работать в Центральной стоматологической поликлинике, довольно скоро появились друзья среди коллег-стоматологов. Возникли новые профессиональные связи. К ней очень охотно шли больные, и практика расширялась. А дома ее, между тем, ожидали важные перемены. Слишком раннее Надино замужество беспокоило ее и папу: Наде было всего восемнадцать лет. Родители испытали шок, узнав о намерениях дочери, но утешало то, что ее руки просил человек вполне достойный и уважаемый, на десять лет старше ее и очень близкий нашему дому.
Это был Исаак Векслер, отслуживший к тому времени положенный срок в армии и ставший известным в стране мастером спорта по спортивной борьбе в легчайшем весе. Он уже работал в должности начальника ленинградского стадиона «Динамо» и учился на вечернем инженерном факультете строительного института. Надя тоже училась, но на дневном архитектурном факультете.
В 1933 году у молодых родилась девочка, а старшие стали бабушкой и дедушкой. Как старого доброго друга мама вызвала на помощь мою няню, и она вернулась к нам, как домой. В той части дома, что выходила на улицу, удалось снять небольшую комнату, чтобы легче разместиться в новом составе семьи. Появились новые приятные заботы и новые трудности, которые всех нас занимали.
* * *
В это неспокойное время мама довольно неожиданно для нас всех решила продолжить свое медицинское образование. Она поступила на двухгодичный курс Ленинградского института усовершенствования врачей. Такое решение она приняла очень продуманно. В институте существовала единственная в стране кафедра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, которой руководил один из лучших специалистов в этой области, профессор Александр Александрович Лимберг.
Она знала, что именно он прославился прекрасно проведенными сложными операциями полости рта. Через некоторое время такая операция потребовалась маленькой дочке Нади – Оленьке. Пройдя полный курс института, мама встала рядом с профессором за операционный стол и ассистировала ему, когда он оперировал ее внучку. Имя профессора Лимберга навсегда осталось дорогим для нашей семьи. Он взялся за операцию, которую в Советском союзе еще никогда не делали, и провел ее блестяще.
Тогда мы мало знали о профессоре Лимберге, история жизни которого теперь хорошо известна. Он был представителем целой династии Лимбергов, его отец Александр Карлович, он сам, а затем и его дочь Алла Александровна – все преданно служили российской медицине на протяжении двух веков.
Никакие исторические и политические катаклизмы не мешали им делать важнейшие научные открытия и развивать российскую стоматологию. В годы Первой мировой войны Александр Александрович Лимберг, практикуя в лазаретах Петрограда и Юго-Западного фронта, разработал уникальную методику оперирования и лечения челюстно-лицевых ранений. Ее использование в советских госпиталях 1941–1945 годов трудно переоценить. И это тоже имело особенное значение для мамы. Но об этом позже. А пока все-таки расскажу об институте, историю которого мама, без всякого сомнения, знала перед тем, как вступить в его стены.
Первый в России Императорский клинический институт для усовершенствования врачей имени великой княгини Елены Павловны был открыт в 1885 году в Петербурге по инициативе профессора Эдуарда Эдуардовича Эйхвальда, личного врача княгини. Вот еще одно замечательное имя в истории российской медицины XIX века.
Сын известного европейского ученого из Вильны, он получил образование в Медико-хирургической академии Петербурга и продолжил его за границей. Вернувшись в Россию, дослужился до должности инспектора по медицинской части при императрице Марии Федоровне и стал штатным доктором великой княгини Елены Павловны – жены Михаила Павловича, сына императора Павла.
Удивительно, как много вообще сделала эта императорская семья для отечественных медицинских учреждений. Елена Павловна, после смерти свекрови лично заведовала Повивальным институтом, Мариинской больницей и Елизаветинской детской больницей. Главным своим делом она считала учреждение Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. Под покровительством общины действовали в разных городах России больницы с тем же названием. Одну из таких описывает в своем романе «Доктор Живаго» Борис Пастернак: там работает после возвращения с фронта молодой врач Юрий Живаго.
Все эти медицинские заведения вложили свои средства в основание Института для усовершенствования врачей. Они же предоставляли свои стационары для практики студентов Института. Зная о широкой благотворительной деятельности княгини Елены Павловны, врачи стали называть институт Еленинским. Тысячи земских докторов получили возможность учиться в нем и практиковать в нескольких его клиниках.
После революции институт потерял свое почетное княжеское звание и стал Государственным Институтом для усовершенствования врачей (ГИДУВ). Прошли годы гражданской войны, общей разрухи, затем новых преобразований. Наконец в 1932 году институт был расширен и превращен в большое учебное заведение для врачей всех специальностей. За два года обучения они должны были обновить и расширить свои знания и практические навыки, которые получили в разные годы в различных медицинских учебных заведениях. Преподавали там крупные специалисты, работающие во всех областях медицины. Это был первый в мире специализированный институт такого рода.
Я вспоминаю наш стол, заваленный учебниками анатомии, физиологии, хирургии. Атласы с цветными изображениями внутренних органов человека, мышц, нервов и всех костей скелета. Старый, коричневый от времени череп, отполированный, наверное, сотнями рук студентов-медиков. И маму за столом, читающую эти книги и атласы. Снова, как в юности, она повторяет вслух и заучивает когда-то зазубренные названия несметного множества костей. Разбирается в иллюстрациях, записывает что-то в толстых ученических тетрадях.
Какую твердую волю нужно было иметь сорокалетней женщине, чтобы второй раз в жизни стать студенткой, выполнять задания и сдавать экзамены, не отказываясь при этом от увеличившихся домашних обязанностей!
Иногда мама рассказывала мне о медицине. Так увлеченно и доходчиво, что я считала профессию врача самой прекрасной на свете. Да я сама уже в Песи видела, сколько пользы может принести людям хорошо образованный доктор.
Мама полюбила свой новый институт, часто рассказывала о своих профессорах и соучениках. Основное здание помещалось в одном из красивейших мест старого Петербурга – у самого конца Кирочной улицы, между Преображенской площадью и Таврическим садом. В этот тихий старинный и очень зеленый уголок города было легко и приятно ездить на трамвае прямо от наших Пяти углов по Литейному проспекту. Возвращалась мама с занятий в хорошем настроении, довольная, оживленная. Папа видел, что она поглощена любимым делом и не роптал. Он даже взял часть домашних забот на себя, чтобы ей помочь. Впрочем, вскоре ему, да и всем нам, предстояло более серьезное испытание.
После окончания курса мама получила еще одну квалификацию: специалиста по челюстно-лицевой хирургии. Эта специальность вскоре понадобилась ей дважды. А пока время неумолимо двигалось к тому, что для всех, кто жил в России, означало тридцать седьмой год, хотя большой террор для Ленинграда наступил гораздо раньше.
Вслед за первыми арестами 1934 года, которые последовали после убийства в Смольном руководителя ленинградских большевиков Кирова, по городу прокатилась новая мощная волна репрессий. Первой пострадала сама верхушка ОГПУ. Для нашей семьи это было далеко не безразлично: стадион «Динамо», начальником которого был Надин муж, подчинялся, как и все спортивное общество «Динамо», управлению внутренних дел города, тесно связанному с этой мрачной организацией. Исаак Векслер со дня на день ждал ареста. Лишь счастливый случай сохранил его и его сотрудников по стадиону. Страх, охвативший семью, постепенно прошел, но беспокойство за тех, кто уже был арестован, только усилилось.
В 1935 году во время специальной операции «Бывшие люди» в тюрьмы и лагеря было брошено 11 тысяч ленинградцев: еще оставшихся в городе бывших дворян и представителей научной и творческой интеллигенции. О людях, причастных к церковному служению и незаконно репрессированных, я уже писала в рассказе о Новодевичьем монастыре.
Вспоминая это время сейчас, я понимаю, как трудно было разобраться во всем происходящем нам – школьникам, чьих родителей по счастью не постигла участь арестованных. В школах твердили те же лозунги, что публиковались в газетах, и пели те же песни, что звучали по радио и на больших парадах. Главной была вошедшая в историю песня со словами: «Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей». Для понимающих людей она звучала совершенно издевательски.
Вместе с лозунгами выпускались для ношения на одежде разнообразные нагрудные значки, призванные отличать лучших представителей советского общества. Уже стали не актуальными значки 1920-х годов, такие, как «Воинствующий безбожник», «Долой неграмотность!» или «Мопр» (Международная организация помощи борцам революции) и даже «Осоавиахим» (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству). Теперь вошли в обиход значки пионера «Будь готов!» и комсомольца – ВЛКСМ. Появился значок для рабочих: «Лучший ударник» и несколько новых, откровенно военизированных значков. Такими были: «Снайпер», «Ворошиловский стрелок», ГТО (Готов к труду и обороне), ГСО (Готов к санитарной обороне) и ПВХО (Противовоздушная и химическая оборона).
За массовым награждением военизированными значками стояла реальная военная подготовка населения, особенно молодежи, к возможной войне. Она начиналась в школах и охватывала взрослых молодых людей в институтах, учреждениях, на заводах. Уклоняться от этой новой пропагандистской кампании мало кто решался – это могло навести бдительные органы на подозрение о нелояльности к власти.
Но большинству молодых людей нравился дух смелости, ловкости, веселого соперничества в завоевании этих знаков отличия. Наша Надя еще в последних классах школы охотно и успешно занималась спортом, прекрасно бегала на спортивных коньках, ходила в дальние походы на лыжах и хорошо стреляла. Она имела оба престижных значка – и ГТО, и «Ворошиловский стрелок» – но не размышляла о перспективах войны.
Многих юношей и девушек все еще увлекала деятельность воинствующих безбожников. Они вели среди населения разъяснительную работу. Не знаю, состояла ли наша Надя в таком обществе, но свои негативные взгляды на религию она иногда высказывала дома, а я глубоко в душе протестовала против них, защищая для себя все, чему учила меня няня. Спорить с сестрой вслух мне было не по силам.
Слова знаменитой песни о веселой жизни думающие люди у себя дома втихомолку толковали как абсурд. А тем временем реальная правота и сила абсурда торжествовала публично. Помпезные революционные праздники, грандиозные физкультурные парады вошли в это время в особую моду. Красиво одетые физкультурники и физкультурницы вышагивали победными маршами по Красной площади Москвы с веселыми улыбками и криками «Ура!» Развитие физической культуры и военная подготовка сплавлялись в единое целое. Все это было похоже на то, что происходило и пропагандировалось в это же время в гитлеровской Германии.
Сейчас уже стало общим местом сравнение двух диктаторских режимов: сталинского и гитлеровского, сталинизма и фашизма. И я не стану проводить параллели между обожествлением фигуры Гитлера в Германии и фигуры Сталина в СССР. Это уже сделали историки. Но я думаю, что до такого планомерного уничтожения части собственного народа, какой позволял себе Сталин, в Германии не доходили.
Уже описано в нашей литературе и показано в кинофильмах, сколько изуверского лицемерия скрывали закрытые фургоны с названиями «Хлеб» или «Мясо», в которых увозили по ночам арестованных. Десятки и сотни тысяч невинных жертв, мужчин и женщин, заполнили тюрьмы и лагеря. И, может быть, еще больше людей было отравлено немотой и соглашательством.
Вместе с пропагандой борьбы с внутренним врагом и оправданием репрессий советских граждан старательно уверяли в том, что страна окружена внешними врагами. Правительство обещало, что в случае нападения на мирный советский народ его армия будет воевать «малой кровью, на чужой территории».
Знаменитая декларация Сталина, ставшая строками песни: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим», очень скоро обнаружила очередное политическое лицемерие советской власти. За короткий период с августа 1938 года по март 1940 года Советский Союз сам ввязался в три войны у своих границ.
В конце июля и начале августа 1938 года произошла серия столкновений между японскими императорскими войсками и советской армией из-за споров о принадлежности территорий у озера Хасан на Дальнем Востоке, в самой южной точке Приморского края. Военный конфликт, продолжавшийся меньше двух недель, до сих пор считается самыми малоизученным среди событий военной истории СССР. Его часто называют тактической репетицией Второй мировой войны.
Эти весьма далекие от Ленинграда события неожиданным образом коснулись нашей семьи. В числе шести ленинградских врачей разных специальностей мама отправилась на Дальний Восток для оказания медицинской помощи воюющим красноармейцам.
Так же, как сами бои с японскими империалистами, эта поездка ленинградских и присоединившихся к ним московских медиков сопровождалась большой пропагандистской шумихой. Врачи были объявлены добровольцами, которые в едином порыве бросились на помощь воюющей Красной армии.
Мне трудно сказать, насколько действительно добровольной была эта поездка. Но я уверена, что моей маме, отнюдь уже не молодой женщине (ей было сорок шесть лет), все еще, как в юности, «грезилось о пользе обществу». Особенно потому, наверное, что недавно она приобрела специальность челюстно-лицевого хирурга, которая могла пригодиться для лечения раненых.
Суть конфликта у озера Хасан свелась как будто к защите советских границ. Первым поводом для столкновения стал пустяк: переход японцами границы 15 июля 1938 года с целью фотографировать территорию СССР. Советские пограничники застрелили офицера-фотографа и захватили его фотоаппарат. Японцы потребовали вернуть им труп застреленного офицера, но получили отказ. Последовали две ноты японского правительства правительству СССР. Вооруженное противостояние назревало день ото дня. 29 июля японские войска захватили на советской территории сопку «Безымянная», а на другой день – сопку «Заозерная», и обе атаки пограничники отбили с большим трудом.
Условия, в которых красноармейцам приходилось воевать, были чудовищно трудными. Вокруг границы на многие километры простирались безлюдные, открытые всем ветрам предгорья. Сопки – эти невысокие, лишенные растительности холмы – одни лишь нарушали пространство голых равнин. Кое-где оставались участки тайги. Летом здесь царила мучительная жара, зимой свободно гуляли снежная пурга и туманы.
Защищал советскую границу маленький отряд, плохо одетый, вооруженный винтовками старого образца. Против него шли прекрасно экипированные регулярные японские военные части.
Пограничники сражались мужественно, ожидая подкрепления. Регулярные части Красной армии наконец присоединились к ним и отбили «Безымянную» и «Заозерную» у японцев. Но ненадолго. Несмотря на то, что З1 июля в боевую готовность были приведены Приморская армия и Тихоокеанский флот, японцы снова взяли обе отбитые сопки.
Несколько дней советская пехота с участием артиллерии и авиации билась за сопки, и только 6 августа сороковой стрелковый полк захватил «Заозерную» и 9 августа снова отбил «Безымянную». Японцы предложили мирные переговоры. 11 августа было заключено перемирие.
Нужно представить себе, какой ценой Советский Союз добился этой победы, чтобы понять, что за работа ожидала на Дальнем Востоке столичных врачей. Истинные потери долго скрывали от населения. И только в семидесятилетнюю годовщину событий были опубликованы реальные цифры. Стало точно известно, что за четырнадцать дней Красная армия потеряла 960 бойцов погибшими, 2752 ранеными. Из них на поле боя погибли 759 красноармейцев, в госпиталях от ран и болезней – 100. 95 бойцов пропали без вести.
Скорее всего, ленинградские и московские врачи еще были в дороге на восток, когда двухнедельные столкновения, происшедшие в районе озера Хасан, уже закончились. Ранеными поначалу должны были заниматься штатные медики армейских соединений.
Характер местности и приведенные цифры – все говорит о том, что врачам воюющих советских отрядов оказалось до чрезвычайности трудно своевременно на месте оказать необходимую помощь раненым и эвакуировать с поля боя убитых.
В Интернете я нашла интервью с одним из немногих еще живых участников этих событий. Он рассказал, что пограничники долго были предоставлены самим себе. При временном отступлении в процессе боев за занятые японцами сопки раненых не успевали выносить с поля боя. Полевые госпитали военные врачи могли развернуть только в редких далеких поселках. Раненых, нуждающихся в срочной хирургической помощи, везли в крупные города: Хабаровск и Владивосток. Ленинградских врачей направили в Хабаровск.
Есть замечательный кинофильм, где снималась дорога, ведущая в Хабаровск из краев, близких озеру Хасан, и труднейший поход путешественников-ученых по долгой труднопроходимой дороге. Это фильм гениального японского режиссера Куросавы «Дерсу Узала».
Так же, как советские солдаты, именно в Хабаровск двигался когда-то отряд географа и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева. Путешественники шли пешком по бездорожью, с невероятными усилиями пробираясь то сквозь таежные чащи, то через открытые ветрам предгорья. Шли мучительно долго.
И можно с уверенностью сказать, что во время боев у озера Хасан в подобном переходе на пути в города умирали тяжелораненые красноармейцы. Столичные врачи прибыли в Хабаровск через многие годы после Арсеньева. Природа вокруг была так же сурова и безжалостна к раненым, как к давним путешественникам.
Отъезд советских врачей планировался и окончательно оформлялся в Москве. Там ленинградскую группу дополнили еще несколько московских опытных хирургов и другие медики. Там они получали официальные назначения, идеологические указания, необходимый запас лекарств, инструментов и перевязочных средств, командировочные деньги. И папа провожал маму до Москвы, чтобы поговорить с руководителями группы и убедиться в безопасности предстоящего путешествия.
Поезд Москва–Владивосток тащился в те годы до Хабаровска дней двенадцать. Время, достаточное, чтобы понаблюдать за меняющейся по дороге природой, за людьми, населяющими огромные пространства Зауралья и Сибири. Сам папа когда-то, еще в двадцатых годах, проехал по железной дороге до Владивостока, и мы помнили, с каким с восторгом уже дома он рассказывал нам обо всем интересном и примечательном, с чем встретился в дороге и в городах, где приходилось некоторое время прожить.
Мама после возвращения из Хабаровска почти совсем не говорила о своих дорожных впечатлениях. Разве что речь заходила о красоте Байкала или об уральских горах. А ведь в конце тридцатых годов долгий путь к Владивостоку для многих россиян был скорбным путем принудительной высылки или дорогой к местам пересыльных тюрем и лагерей. Вплоть до начала большой войны с фашистской Германией везли по сибирской дороге в теплушках раскулаченных крестьян и получивших свой срок лагерников. Их ждали самые глухие сибирские уголки, извечные места российских ссылок: в Зауралье, Алтае, Казахстане и Киргизии, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Иногда эшелоны со ссыльными стояли на остановках часами, а то и сутками, рядом с пассажирскими поездами. Бывало, из окон теплушек арестованные выбрасывали записки на волю, чтобы добрые люди могли передать маленькие послания их семьям. Не сомневаюсь, что видели такое и врачи, пока ехали в Хабаровск, но не позволяли себе об этом говорить, а тем более рассказывать даже близким.
Вспоминая теперь о маминой поездке в 1938 году, я попыталась найти известные мне примеры того, каким был тот страшный год для советской интеллигенции, не связанной ни с сельским хозяйством и промышленностью, ни с армией, где чаще всего тогда искали врагов. И одним из таких примеров была история репрессированных сотрудников ленинградского Издательства детской литературы.
В 1920-х и 1930-х годах в этом маленьком отделении Государственного издательства Самуил Яковлевич Маршак и Владимир Васильевич Лебедев собрали лучшие силы литераторов и художников. Все вместе они создавали новую литературу для детей. Потребовался смелый творческий эксперимент, чтобы детская книга 1930-х годов стала вровень с новым изобразительным искусством и новой литературой.
Естественно, что поставленная задача потребовала непривычных художественных средств. Большевистская партия посчитала экспериментальное искусство не отвечающим требованиям воспитания советских детей в пролетарском духе. Надо было прекратить смелые литературные и художественные находки, которые раздражали власть. А это значило избавиться от наиболее ярких создателей новой детской книги. Реальных фактов государственной измены для ссылки или ареста не требовалось. Достаточно было лишь доноса.
Аресты, допросы и временные высылки мастеров литературы и искусства, работавших в ленинградском Детгизе, начались еще в 1931 году. Писатели Даниил Хармс и Александр Введенский отбывали ссылку в Курске, а художница Е. В. Сафонова – в Вологде.
Но самым страшным годом и для писателей, и для художников стал 1938-й. Именно тогда был арестован прекрасный поэт и переводчик Николай Заболоцкий, которого после ареста и страшных пыток отправили в лагерь на Алтай. Расстреляли тогда же поэта и редактора журналов «Еж» и «Чиж» Николая Олейникова. Художницу Веру Ермолаеву, инвалида на костылях, отправили после тяжкого тюремного заключения в район Аральского моря. Там, в диких безлюдных краях, она вскоре была расстреляна.
Именно 1938 году во Владивостоке, тоже на пересылке, умер Осип Эмильевич Мандельштам. Даниил Хармс и Александр Введенский скончались двумя годами позже: первый – в пересыльной тюрьме Новосибирска, второй – на этапе заключенных по пути в Казань. Они тоже проехали по великой сибирской дороге часть своего скорбного пути. Мама предпочитала рассказывать только о своей жизни в Хабаровске.
Я снова и снова вглядываюсь в географическую карту. Вижу крошечное озеро, затерянное между сопок. Китайскую и японскую границы. Из разных источников продолжаю извлекать хоть какие-то сведения о том, что действительно происходило в разные годы в этих местах.
С начала 1930-х годов японцы часто совершали вооруженные набеги на Восточный Китай, а заодно нарушали и дореволюционную российскую, а потом советскую границу. История повторялась не раз. Но теперь речь шла об удобном поводе для пробы сил и для пропаганды непобедимости Красной армии.
О человеческих трагедиях, которыми обернулась победа, никто не говорил. И мало кто знал о том, сколько командиров Красной Армии всех рангов было арестовано и расстреляно перед началом последней военной операции. Именно тогда был уничтожен один из видных военных деятелей страны – маршал Василий Блюхер.
Я училась уже в старших классах школы и верила в то, что мама выполняет важное и почетное государственное задание. Тогда школьники, так же как рабочие или служащие, в обязательном порядке слушали политинформации. Политизировано было все. Предмет «Обществоведение» заменял изучение истории. В общей географии главное место занимала политическая география.
Я плохо знала этот предмет. Преподавал у нас географию Николай Афанасьевич Петрищев, который раньше учился в нашей же школе вместе с моей сестрой Надей. Недовольный моими слабыми ответами у доски, он говорил: «Стыдитесь, Ганкина, ваша сестра прекрасно знала политическую географию!»
Действительно, я помню, как Надю увлекал бригадный метод обучения и прочие революционизированные нововведения в школе в 20-е годы. Она и ее школьные товарищи смотрели на них весело, как на признаки не только пролетарской, но и вообще всяческой свободы. Интернационал они тогда еще пели восторженно, считая, что участвуют в строительстве нового мира.
Теперь все принимало более жесткий характер. Везде проводились собрания с обзором международных событий, с назойливыми напоминаниями о том, что единственная в мире прогрессивная и благодатная страна рабочих и крестьян окружена врагами. В нашей школе старшая пионервожатая на одном из таких собраний совсем неожиданно сказала, что меня, как дочь врача-добровольца, помогающего доблестной Красной Армии в отпоре иноземным захватчикам, решили досрочно принять в комсомол.
Меня не спрашивали, хочу ли я вступить сначала в октябрята, потом в пионеры. Теперь точно так же, не спрашивая, досрочно, приняли в комсомол. И я незаметно для себя стала частью какой-то политической рекламы. В конце концов, в этом не было ничего особенного, поскольку мало кто обращал внимание на привычную для слуха пропаганду.
Политинформации выслушивались вполуха и вскоре забывались. Нас больше интересовал шекспировский кружок, который организовала наша любимая учительница русского языка и литературы – Роза Павловна Коган. И мы часами после занятий читали Шекспира, писали сочинения и учились делать доклады на литературные темы.
Но школа жила под неусыпным оком районного отдела образования, где сидели строгие ревнители советской идеологии. Когда мы после летних каникул пришли на занятия, чтобы приступить к программе десятого, выпускного класса, Розы Павловны в школе уже не было. Ее место занял молодой красивый учитель Максим Максимович. Вместо Шекспира он предложил нам изучать произведения его любимого советского писателя – Константина Паустовского.
Правда, погромные собрания с проклятиями в адрес врагов народа у нас в школе не устраивались. Кто-то из педагогического совета упорно, хотя и тихо, сопротивлялся растлению наших незрелых умов и неокрепших душ. Директор и учителя каким-то образом обходили указания свыше: требовать от учеников отказываться от репрессированных родителей.
Нам не стали объяснять, отчего любимец школы Изя Шварц внезапно перестал ходить на уроки и вообще как-то исчез из нашей среды. Когда он через много лет появился в советской музыкальной жизни как известный композитор Исаак Шварц, он тоже не спешил говорить о времени, вычеркнутом из жизни его семьи. Только в 1990-х годах, когда многие скрытые факты истории вышли на поверхность, он рассказал правду. В 1938 году его отца расстреляли, а их с матерью отправили в ссылку в город Пишпек. Часть пути они тоже проехали по Великой Сибирской дороге.
Ленинградские врачи добросовестно поработали на Дальнем Востоке. Мне трудно что-либо сказать о полевой хирургии, поскольку о ней не говорила и мама. Срок военных действий был слишком короток, а условия боев слишком сложны. Однако никто не собирался сразу после окончания мини-войны отправлять ценных специалистов назад. Всех использовали в городах Дальнего Востока.
Большую часть положенного срока мама прожила и проработала в Хабаровске. Может быть, папе она и рассказывала о том, что происходило в городе после боев у сопок. Но мне, по ее мнению, незачем было это знать. Теперь известно, что Владивосток и Хабаровск принимали раненых, но врачи не должны были раскрывать истинные масштабы армейских потерь в людях и технике. И они молчали. Так что моя память сохранила другие рассказы мамы.
Она лечила горожан. Кроме советских больных, ей было доверено лечение семейства японского консула и его детей, а также служащих консульства. Мама много рассказывала о чрезвычайно вежливом и даже симпатичном японском консуле (очевидно, его в суматохе не успели отозвать, а перемирие восстановило его дипломатический статус), о его послушных детишках, их трогательных попытках говорить по-русски. Доктор и иностранные пациенты общались к взаимному удовольствию. И поистине удивительно, что после возвращения домой советского врача не обвинили в шпионаже в пользу Японии.
Как жаль, что я так никогда и не узнала, что она почувствовала, оказавшись так надолго на краю земли. Испытала ли она разочарование оттого, что врачам не пришлось работать во фронтовых условиях. Все-таки сорокашестилетней женщине, оставившей большую любимую семью, надо было обладать незаурядной волей, чтобы найти интерес и удовлетворение в рутинной работе на чужбине. Тогда за это не платили длинным рублем – такая мотивация вообще исключалась. Наш энергичный папа скорее сам бы отправился на Дальний Восток, чем позволил ей ехать на заработки. Не сомневаюсь, что силы маме давало чувство врачебного долга, интерес к новым условиям и новым встречам.
Она много повидала за это нелегкое время службы. Встретила немало интересных людей, обо всех рассказывала с чувством восхищения тем, как они живут среди суровой природы, без удобств, без хорошего медицинского обслуживания, нуждаясь в полноценной пище. Многие старожилы Хабаровска страдали от цинги, особенно зимой.
Я пыталась выяснить, докатилось ли до тех мест знаменитое постановление о медицинском обслуживании рабочих и крестьян 1929 года, но нашла лишь сведения о том, что в Хабаровске до 1917 года насчитывалось всего семнадцать практикующих врачей. Не много прибавилось их и позже: только в 1930 году в городе открыли медицинский институт. К 1938 году едва ли многие успели его закончить. Так что можно с уверенностью сказать, что столичные доктора городу очень пригодились.
Мамино собственное здоровье было тем временем основательно подорвано. Особенно давало о себе знать сердце. Тяжелее всего она перенесла зиму в Хабаровске. Умеренно-влажный летний климат этого края оказался зимой слишком суров для ленинградцев. Сырые туманы сменялись жестокими морозами и метелями. В такую пору оттепели сменяли заморозки. Начинался страшный гололед, и горожане катились по заледенелым деревянным тротуарам холмистых улиц, держась за лодочные канаты, протянутые вдоль каждого скользкого деревянного настила, как импровизированные перила.
Овощи и фрукты летом быстро заканчивались, зимой остро чувствовался недостаток витаминов. В изобилии имелись только мороженая или вяленая рыба и молоко, которое зимой продавалось в виде белых ледяных кирпичиков. Амур – одна из красивейших на востоке рек – кормил рыбой много окрестных городов и поселков. Но иногда в нем запрещали купаться и пользоваться речной водой – говорили, будто ее отравляют недружественные китайцы.
Мама вернулась домой заметно уставшая, похудевшая. Ее отпустили немного раньше срока по состоянию здоровья. За время ее отсутствия колесо нашего семейного быта исправно вертелось. В доме работала молодая няня маленькой внучки, хлопотала по хозяйству верная бабушка Матвеевна. Папа, который служил в центральном канцелярском объединении, часто вечером выходил на кухню и надевал фартук, чтобы приготовить нам какое-нибудь любимое вкусное блюдо. Он и это умел. Но теперь мама, наконец, была дома и быстро взяла все в свои руки. Отдыхать ей почти совсем не пришлось. Она снова приступила к работе в Центральной стоматологической поликлинике.
Тем временем Хасанские события теряли свой романтический ореол. В мае 1939 года начались новые военные столкновения в Монголии на реке Халхин-Гол. И теперь, когда они достаточно изучены, можно, пожалуй, сказать, что они–то как раз в большей степени, чем год тому назад на озере Хасан, стали серьезной репетицией Второй мировой войны на Дальнем востоке. Как никогда очевидной оказалась связь этого далекого пограничного конфликта с тем, что происходило в Европе.
Эта вторая необъявленная война продолжалась уже не недели, а месяцы, с весны до осени 1939 года. 11 мая японская кавалерия атаковала пограничную заставу дружественной СССР Монголии. 17 мая советские войска, защищая Монголию, вступили в сражение на реке Халхин-Гол. В августе армия Жукова нанесла решительный удар по превосходящей по численности армии Японии, и 15 сентября Япония предложила СССР подписать соглашение о мире.
Фашистская Германия пробовала свои силы, оккупируя Чехословакию и Австрию, входила в Польшу. День нападения на Польшу – 1 сентября 1939 года стал началом Второй мировой войны. Япония в это время шла к своему поражению в попытке захватить территорию Монголии, на стороне которой успешно воевал СССР.
Очевидная победа, обеспеченная на реке Халхин-Гол армией под командованием Жукова, несмотря на потери 25 тысяч солдат и военной техники, произвела на Японию сильное впечатление. Фактически она заставила ее отказаться от участия в мировой войне на стороне Германии. Несмотря на успех, советское политическое руководство категорически запретило Жукову переходить в боях на японскую территорию. Эта тактика ждала своего часа.
Ее советские полководцы пытались опробовать в следующей войне 1939–1940 годов, советско-финляндской, или «зимней», как ее называли сами финны. Нам говорили, что воюет Советский союз с белофиннами. Однако, как белофинны могли угрожать СССР через двадцать лет после того, как белые армии практически исчезли с горизонта истории, – никто не уточнял. Эта навязанная Финляндии война унесла немало жизней советских солдат.
* * *
Мои рассказы о войнах могут показаться неуместными в воспоминаниях о родителях, о повседневной жизни нашей семьи, похожей на жизнь многих советских семей в тридцатые годы. Однако для меня самой крайне важным оказалось изучение трех военных конфликтов, предшествующих большой, Второй мировой войне. Ведь они были главной составляющей военной политики Сталина, а их результаты и потери тщательно скрывались от населения. Пришло время наконец узнать, что скрывалось в те годы от нас.
Как ни сильна была военная пропаганда, сопровождавшая нашу обыденную жизнь, жизнь эта шла своим чередом, и я уверена, многих граждан, так же, как моих родителей и людей их круга, больше всего занимали не общественные и не государственные, а семейные заботы. Тем более что никакого влияния на ход политических событий советские люди не имели.
Характерный пример – Финляндия. Она была для молодых моих мамы и папы единственной близкой и доступной по деньгам заграницей. Побывав там, они долго вспоминали эту очаровательную страну, которая считалась русской Швейцарией, и не могли взять в толк, чем она враждебна СССР.
Финны были необычайно дружелюбны по отношению к русским. Всюду царили чистота, порядок, поражало обилие цветов. Граница с Финляндией проходила так близко от Ленинграда, что горожане еще в двадцатые годы привыкли селиться на дачах, расположенных в бывшей Финляндии, не опасаясь оставшихся кое-где хозяев и пользуясь финским гостеприимством.
Белоостров, Кавголово, Токсово, Койвисто, Оллила, Куоккала – все это были места, отошедшие к Советскому союзу после 1917 года, когда Финляндия, раньше входившая в состав Российской империи как Великое княжество, получила полную независимость. Граница проходила за пределами прежней Выборгской губернии.
К середине 1930-х годов в пригородных местечках Кавголово и Токсово, кроме старых и новых дач, были построены спортивные комплексы для лыжников и знаменитый Кавголовский трамплин. На нем тренировались спортсмены к всесоюзным соревнованиям лыжников. Природа щедро одарила эту красивую землю сосновыми лесами, высокими холмами и зелеными равнинами, озерами и ручьями.
В этом полезном для здоровья краю находился привилегированный семейный дом отдыха для работников системы Наркомата внутренних дел, к которой принадлежал теперь стадион «Динамо». И семья начальника стадиона, то есть наша, получила в этом доме комнату.
Мама и папа с восторгом согласились провести там свой отпуск. Сейчас такая привилегия кажется мизерной по сравнению с привилегиями государственных чиновников высокого ранга более поздних времен, а уютная комнатушка в двухэтажном деревянном доме – клетушкой по сравнению с хоромами в элитных домах отдыха нынешней политической и военной знати.
Наше добротное деревянное строение стояло на высоком лесистом холме, за которым открывались живописные поляны и перелески. Лесные тропинки петляли среди сосен и вели прямиком в сторону границы с независимой Финляндией. В Белоострове, например, она проходила всего в тридцати двух километрах от Ленинграда. Дачный паровик проходил это расстояние за полчаса. Кавголово находилось несколько дальше, и край тут был почти не тронутый цивилизацией. Кругом шумели высокие сосны, распадки перемежались с холмами, и в лесной чаще вдруг открывался вид на огромное глубокое озеро, где воды, бывало, даже штормили.
Дом отдыха населяли семьи с детьми – от малышей, которых опекали няни, до школьников среднего возраста. Было организовано простое, но сытное питание, строго соблюдался режим дня. Старшие дети проводили время свободно, с обязательством соблюдать часы завтрака, обеда и ужина. Нашей Оленьке было тогда неполных четыре года. Здесь в густом хвойном лесу она заметно окрепла и быстро распрощалась с типичной ленинградской бледностью.
Я состояла в самой отчаянной компании девочек и мальчиков лет десяти-тринадцати. За лето мы облазили все близкие и далекие окрестности, не раз доходили в своих походах до самой границы, в местечке Васкелово. Здесь стояло с десяток каменных столбиков, будка заставы – и только. Даже проволочных заграждений мы не заметили. А однажды мы нарвались на начинавшийся лесной пожар. Мобилизованные на его тушение красноармейцы-пограничники прогнали нас домой, и мы, не скрывая страха, бежали от огня, который коварно преследовал нас.
Но это был единственный за все лето опасный поход. Нам строго-настрого запретили появляться на озере, и для того, чтобы нам не запрещали что-то другое, мы честно обходили его стороной, тем более что о нем рассказывали разные страшные истории и легенды.
Нежные воспоминания остались у родителей и у меня об этом финском лете. Трудно было себе представить тогда, что скоро в этих краях начнется война. А мои папа и мама так и ушли из жизни, думая, что реакционные силы Финляндии, как писали газеты, а позднее и Советская энциклопедия, спровоцировали советско-финляндскую войну, которая стала частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.
Что же было на самом деле? Это теперь, спустя почти семьдесят лет, каждый знает о Мюнхенском сговоре между Германией, Великобританией, Францией и Италией, после которого Германия оккупировала Чехословакию, затем быстро вошла в Австрию. А тогда советские люди мало знали о происходящем где-то там, на Западе.
23 августа 1939 года Советский Союз заключил с Германией договор о ненападении, названный вскоре Пактом Молотова-Риббентропа. Советским людям внушали, что Германия – большой друг Советского Союза. И они не подозревали о том, что, заключая этот договор, два мировых хищника делили Восточную Европу. Известен теперь и «Секретный дополнительный протокол» об этом дележе, где говорилось о разграничении сфер обоюдных интересов, по которому Советский Союз должен был присоединить к своей территории Эстонию, Латвию, большую часть Литвы и Финляндию, а также восточную часть Польши и Бессарабию. Германия получала всю западную часть Польши. После оккупации Чехословакии ее войска уже стояли у Данцига и южных польских границ.
Из всех стран, упомянутых в секретном протоколе, только Финляндия отказалась от создания на ее территории одной из союзных республик СССР, как это позволили правительства Эстонии, Латвии и Литвы. Ни выгодный торговый договор, ни сказки об обеспечении безопасности границ и о социалистическом рае, не убеждали эту маленькую страну присоединиться к СССР. После трижды отклоненных Финляндией советских предложений дипломатические отношения с ней были разорваны.
Советский Союз искал повода для объявления войны Финляндии, надеясь, что в результате победы быстро получит желаемое. И провокация последовала вовсе не со стороны Финляндии, как говорилось в советской печати. В последних числах ноября 1939 года специальная небольшая группа войск НКВД ночью обстреляла свои советские пограничные части и выдала этот инцидент за финскую провокацию. 29 ноября Молотов выступил по радио с речью, сравнимой с объявлением войны.
30 ноября ночью в полной темноте войска ленинградского военного округа пересекли границу Финляндии. Военные корабли Балтийского флота дали первые залпы по финляндскому побережью, советские самолеты сбросили первые бомбы на спящий Хельсинки.
Ленинград тоже спал, не подозревая о том, что началась война.
Прошло совсем немного времени, и в нашем городе зазвучали сирены воздушных тревог. С наступлением вечера окна требовалось наглухо завешивать светонепроницаемой тканью. В небе летали самолеты, стреляли зенитные орудия, госпитали принимали раненых. Рассказывали страшные истории о финских снайперах и особых отрядах, охотившихся на красноармейцев с финскими ножами.
Газеты избегали подробностей, писали только об успехах Красной армии. Правдивые рассказы просачивались, тем не менее, из госпиталей. Мы, школьницы старших классов, рвались туда работать санитарками, наши друзья мальчики мечтали стать солдатами-добровольцами. Но ни то, ни другое не поощрялось. Нам говорили: «Учитесь хорошо, ваше дело – учиться, нашу страну есть кому защищать, война скоро закончится и будет победоносной!»
Со временем все яснее становилось, что для финнов это освободительная война, и они дерутся мужественно, не щадя своих жизней.
В эту зиму в Ленинграде, его ближних и дальних окрестностях стояли сильные морозы. В декабре 1939 и январе 1940 годов столбик термометра опускался до минус 40–45 градусов. Сама природа, казалось, ополчилась на людей. Я помню особое вечернее чувство тревоги, когда над затемненным городом сияла холодная, безразличная луна. И думалось о том, как в ее свете на заснеженных равнинах Финляндии виден, наверное, каждый красноармеец.
Финны воевали в теплой одежде, белых маскхалатах, легко передвигались на лыжах. Их снайперы могли часами сидеть в укрытиях в теплых полушубках и валенках. А советские солдаты не имели хорошего зимнего обмундирования. Кирзовые сапоги и шинели не годились для холодной зимы. Красноармейцев постоянно преследовали обморожения. Не хватало хорошо натренированных военных лыжников. В лыжные рейды отправляли лучших советских спортсменов, иногда даже не имевших необходимой военной подготовки, и это тоже оборачивалось невосполнимыми потерями. Погибло немало лыжников спортивного общества «Динамо», а среди них были друзья нашего Исаака. Все финские поля и перелески, покрытые глубоким снегом, финны так умело заминировали, что советские саперы не скоро научились обезвреживать незнакомые минные устройства.
Наконец, финская оборонительная линия Маннергейма вовсе не была такой слабой, как уверяла советская разведка. Это была мощная, многослойная линия обороны. Ее длительный прорыв стоил советской армии немалых жертв. И прорвали ее только в самом конце войны, в феврале 1940 года. В марте войну закончили. Победа досталась слишком большой ценой. Советские потери составили 72 тысячи убитыми, 200 тысяч ранеными и 17 тысяч пропавшими без вести. Финляндия потеряла 23 тысячи убитыми и 45 тысяч ранеными. Никто из финнов без вести не пропал.
12 марта 1940 года СССР и Финляндия подписали мирное соглашение. К Советскому Союзу отошли: Карельский перешеек, сильно разрушенный Выборг, северное Приладожье и некоторые острова в Финском заливе. Вспоминая об этой победе, маршал Василевский откровенно признался Константину Симонову, что финская война была для нас большим срамом.
Независимость, снова завоеванная Финляндией, поставила ее в привилегированное положение в Европе по сравнению с северо-западными соседями. Пока шла советско-финляндская война, Германия не дремала: в апреле 1940 года она оккупировала Данию и Норвегию, в мае вторглась в Нидерланды, Бельгию, Голландию и Люксембург. 13 июня капитулировала Франция. Париж был объявлен открытым городом. 14 июня 1940 года немецкая пехотная дивизия прошла победным маршем по Елисейским полям.
Вскоре после того, как Финляндия отвоевала свою независимость, она заявила о прекращении действия недавно заключенного мирного соглашения с СССР. Теперь она объявила Советскому Союзу войну. А чуть позже, когда фашистские войска вторглись в СССР и оказались в непосредственной близости от Ленинграда, она вслед за ними замкнула кольцо блокады города с Севера.
И все же, прежде чем начать рассказ о судьбе нашей семьи в этой страшной части Второй мировой войны и о пережитой блокаде, мне хочется вспомнить о других мирных днях конца 1930-х годов.
* * *
Наша жизнь в Ленинграде не сильно отличалась от того, как жили в предвоенные годы многие интеллигентные семьи. Все давно привыкли к скромным заработкам, смирились с нехваткой элементарных продуктов питания, с продовольственными карточками и другими мелкими и крупными бытовыми трудностями, о которых современная цивилизация уже не имеет понятия. Помню, с каким восторгом встречали у нас дома кухонную газовую плиту и с осторожностью убирали в домашнюю кладовку старую керосинку – вдруг еще пригодится…
Электрических холодильников мы еще в те годы не знали. На кухне стоял давно изобретенный ледник: красивый светлый шкафчик с узорной столешницей, часть которой открывалась сверху. Она представляла собой тяжелую оцинкованную крышку. Под ней находилось также оцинкованное отделение для льда. Лед, привозили каждые два-три дня большими глыбами, закладывали прямо в это отделение, и все, что находилось в столике, охлаждалось.
Ледник вмещал слишком мало продуктов, и то, что не помещалось, хранили зимой между оконными рамами или подвешивали в легких сумках на ручках окон с уличной стороны. Мне кажется, что вязаные из прочных ниток сумки- «Авоськи» появились уже тогда и заменили более массивные плетеные из сухих трав кошелки.
На смену тяжелой медной посуде приходила легкая алюминиевая, громоздкие духовые утюги, которые грелись раскаленными углями, заменили маленькие, но тяжелые чугунные утюжки, быстро нагревающиеся на газовой конфорке. Наш большой и тяжелый медный чайник, начищенный до блеска, давно уже неподвижно стоял на полке в кухне. Сверкающий, как зеркало, легкий никелированный электрический чайник нагревался в течение несколько минут. Все эти и другие новшества вводил в обиход папа. Он постоянно украшал и совершенствовал наш быт.
Папино стремление к удобствам распространялось не только на наше жилище. Он любил город, район, где мы жили, и наш Загородный проспект. Менялся облик старой улицы, булыжник давно сменили торцы, а их, в свою очередь, заменил современный асфальт. Через Пять углов проходило несколько трамвайных маршрутов, на остановках толпились горожане. По утрам люди всегда спешили на работу, особенно после того, как вышел особый, самим Сталиным придуманный закон об опозданиях. За опоздание на двадцать минут полагалось тюремное заключение.
Наш папа, который сам никуда и никогда не опаздывал, сочувствовал всем, кто с тревогой ждал трамвая. Ручные часы тогда еще не были доступны каждому, и папа решил, что на нашем перекрестке необходимо на видном месте установить уличные часы, хотя бы вроде тех, что висят на вокзалах.
Мы посмеивались, когда он рассказал нам, что написал по этому поводу письмо в районный совет. Но через некоторое время гражданину Ганкину пришел ответ, и однажды, выйдя на улицу, мы увидели, как электрики вешают на массивный кронштейн на стене серого дома с башенкой большие часы с круглым циферблатом.
Ко многому с годами приходилось привыкать родителям. Например, к скромной одежде. Но даже она по-прежнему выглядела на папе с иголочки. Мама, которая в московскую бытность одевалась у помощницы знаменитой Ламановой, перешла на платья и костюмы, перешитые на более скромный лад из добротных старых вещей.
Туфли и ботинки теперь не заказывали, как когда-то у сапожника, а покупали в магазинах. Старинная обувная фабрика «Скороход» выпускала вполне приличную обувь. Папа требовал, чтобы ботинки чистились до блеска, особенно строго следил за тем, надраиваю ли я задники так же тщательно, как носки моих башмаков.
Летом молодежь носила белые парусиновые туфельки, которые чистили, вернее, замазывали на них грязь растворенным в воде зубным порошком. Парусина была дешевле кожи. Зубной пасты тогда еще не знали. Мы с Надей любили эти туфельки. В них и в белых складчатых коротких юбочках модно было играть в теннис. И мы обе учились у знаменитого ленинградского тренера Мищенко.
Мама приучала меня не придавать особого значения тому, кто как одевается, и, главное, не завидовать девочкам, которым родители шили нарядные платья. Мне обычно перешивали одежду старшей сестры, и я этому радовалась: Надя одевалась скромно, добротно и с хорошим вкусом.
Здоровье в нашей семье всегда стояло на первом месте. У мамы главными приоритетами при любых обстоятельствах оставались хорошее питание и полноценный летний отдых. На это денег не жалели.
Каждое лето родители выбирали для отпусков и каникул какое-нибудь место подальше от сырого Ленинграда. Ехали туда, где теплее и суше, где достаточно фруктов, свежих овощей и молока. В детстве мы с сестрой не знали заводских молочных продуктов. Молоко, сметану и творог всегда приносили по утрам знакомые молочницы. В обязательном порядке всем полагалось на завтрак есть кашу. Папа соглашался с тем, что завтракали порознь, уходя на службу, в институт, в школу, но обеденный ритуал соблюдался строго, и никто не имел права опоздать к обеду.
До самых последних мирных дней крахмалились скатерти, свежевыглаженные салфетки укладывались в кольца. По праздникам и дням рождений доставались из буфета тонкие бокалы и рюмки. Никого не напрягали эти порядки – так прочно и давно они вошли в быт. И сестра, и я – мы выросли вместе с этим укладом. Мы нежно любили теплую атмосферу домашних вечеров под большой лампой, с абажуром, низко опущенным над столом. Она сближала и согревала нас. Уезжая, мы скучали по дубовому столу, где у каждого было свое, папой установленное место: его деревянное кресло стояло во главе, я сидела по правую руку, между ним и мамой, по левую – дядя Исаак, за ним Надя, ее муж и воспитанница Сима. Было место и для бабушки, и для гостей.
А ездили мы в конце 1930-х годов на Украину. Это было время, когда крестьянские хозяйства постепенно восстанавливались после страшной полосы голода. Папа выбирал обычно какое-нибудь маленькое село или хутор на Полтавщине. Прежде это была богатая губерния, теперь область.
На хуторах украинские семьи хозяйничали единолично. Хаты там почти всегда стояли недалеко от реки, в окружении фруктовых садов, и неизменных бахчей с кавунами, дынями и тыквами. В одну из таких поездок мы отправились втроем с Надей и подрастающей Оленькой. Места были гоголевские. И я до сих пор помню теплые вечера и тихие ночи с бесконечным стрекотом цикад и яркими звездами на бездонном темном небе.
Папа привез нас в местечко недалеко от города Гадяч. Село, почти уже городок, называлось Прилуки. Недалеко по нижнему течению реки раскинулись Великие Сорочинцы, и сам Миргород, о которых писал Гоголь. Вечерами с той стороны слышались изумительной красоты песни. А по воскресеньям в селе шумели базары с нарядными мужиками, бабами и девушками, с обилием живой птицы, фруктов, овощей и ягод. Во дворах варили варенье, и сладкий ягодный дух витал в воздухе. Гусей, кур или уток покупали живьем и ощипывали дома.
Другим летом, в малом сельце Вельбовка, жили мы большой компанией взрослых и детей. Хаты стояли в сосновом бору, и все хозяева носили одну фамилию: Супруненки, хотя и не все были родственниками. Здесь, вдали от железной дороги и больших сел, хозяйство было натуральное. Разводили поросят и разную птицу: кур и уток, гусей и индюшек. У всех сельчан, и у нашей хозяйки Маруси росли поросята на продажу для осенней ярмарки. Летом мяса не ели. Говядиной вообще не торговали. Стадо молочных коров пасли недалеко от села мальчишки-пастухи. Все, что требовалось для жизни, кроме разве спичек и соли, было свое. Огороды и бахчи полнились овощами, арбузами и дынями. Яблоки и знаменитые украинские вишни в плодовых садах родились в изобилии.
В этих краях или не вспоминали о смертельном голоде начала 1930-х, или боялись о том говорить. И только в 1970-х годах, когда наши Ваня и Оля купили домик в селе Жовтнéво близ станции Попельня Житомирской области, я услышала от стариков-очевидцев страшные рассказы о гибели целого поколения украинского крестьянства.
К лету 1941 года жизнь в семье вполне устоялась. Родители работали. Надя закончила архитектурный факультет Ленинградского Института промышленного строительства. Оленьке в сентябре должно было исполниться восемь лет. Меня без экзаменов приняли на романо-германское отделение Ленинградского Университета. Надин муж закончил тот же институт, что и Надя. Он уже давно совмещал работу инженера-конструктора с деятельностью спортивного судьи всесоюзной категории по французской борьбе, которой до травмы как мастер спорта занимался сам. Это вообще был человек уникальный, в каком-то смысле самородок, яркий спортсмен и хорошо образованный инженер. Теперь он работал над воплощением в жизнь проекта, необычного для советской архитектуры 1930-х годов.
Автором проекта был Александр Сергеевич Никольский, лидер ленинградского архитектурного авангарда. Он задумал построить грандиозный спортивный стадион на внутренних склонах насыпного холма в западной части Крестовского острова. В кратере этого холма, высотой с пятиэтажный дом, должны были разместиться трибуны и огромное игровое поле. Строительные работы начались еще в 1932 году. Новый для строителей замысел требовал и новых конструкторских решений и новых технологий. Работа шла медленно. Но к весне 1941 года вполне определились контуры будущего сооружения.
Летом наша семья собиралась провести отпуск на Черном море. Снова встретиться с семьей Коганов.
Все личные и общественные планы перечеркнула война.
Часть вторая
Военные годы
Воскресенье 22 июня застало ленинградцев, как и все население СССР, врасплох, хотя много событий далеко не мирного характера произошло после окончания советско-финляндской войны с марта 1940 года и до этого рокового дня.
Советские войска успели выполнить почти все условия договора о ненападении между СССР и Германией, так же как условия Секретного протокола. Оккупировали восточные части Польши, образовав Западную Украину и Западную Белоруссию. Вслед за тем – заняли Латвию, Литву и Эстонию, превратив их в советские республики. Вошли в Бессарабию и Северную Буковину, после чего была образована Молдавская ССР. И вот, по прошествии недолгого времени после заключения договора, который Советский Союз так старательно выполнял, Германия напала на него без объявления войны.
В этот день у нас дома поздно собрались к завтраку. В 12 часов, когда прозвучала речь Молотова о нападении немецких войск, все еще сидели за столом. Голос Молотова был ровный, бесцветный, приглушенный, но перечисление городов, подвергшихся ночной бомбардировке, ошеломляло. Речь шла о Киеве, Житомире, Севастополе, Каунасе и других городах. Было сказано, что со стороны Румынии и Финляндии тоже велись налеты и артиллерийские обстрелы. Наконец, Молотов впервые назвал страны и народы Европы, порабощенные Гитлером. А затем, сравнив его с побежденным в России Наполеоном, объявил, что война против немецко-фашистских захватчиков станет для Советского Союза отечественной войной, в которой враг будет разбит и победа будет за советским народом.
Радио мы слушали, не притрагиваясь к начатой еде, и еще долго сидели молча, глядя друг на друга. Теперь старшие заново обдумывали то, о чем старались не говорить раньше: о напрасных уверениях в нерушимой дружбе с Германией и о словах Сталина о вершке нашей земли, которую не отдадим никому и никогда, тогда как бои шли на нашей территории.
Надо думать, что подобные размышления занимали в этот день не только моих родителей. То, что пережили многие советские семьи, начиная с известия о начале войны и до ее конца, старались осмыслить многие очевидцы. И рядовые граждание, и профессионалы: писатели и историки. Кто-то из ленинградских литераторов сказал: «О войне написано много. О войне написано мало. Оба утверждения будут справедливы всегда».
Каждый пишущий может что-то свое добавить к множеству семейных историй военного времени, и я тоже не претендую ни на что большее. К тому же мне кажется, что тревожащие мою память факты нашей частной жизни достаточно выразительно характеризуют общие беды, пережитые Ленинградом и его жителями.
В то первое военное утро спокойнее всех за нашим столом выглядела мама. Но я знала: это внешнее спокойствие приходило к ней всегда в самые трудные минуты. Тогда она действовала быстро, решительно и бесстрашно – особенно, если от нее хоть сколько-нибудь зависела жизнь и здоровье родных. Так она, еще совсем молодая и неопытная, но уверенная в невиновности мужа, недолго думая, помчалась в харьковскую тюрьму и выручила его. Так однажды спасла меня, двенадцатилетнюю, от начинающегося заражения крови. Решилась на хирургическое вмешательство в домашних условиях, хотя надежных средств антисептики в те годы еще не имелось даже в больницах, а до открытия пенициллина было еще далеко. Так же решительно она встала ассистентом за операционный стол в клинике профессора Лимберга, когда он с большим риском оперировал ее маленькую внучку. Мама знала, что таких операций в СССР еще не делали. А кроме того, врачи, даже самые смелые, не участвуют в операциях родственников. Во всех этих случаях она просто подавляла свой страх и верила в успех задуманного.
Однако разница все же была. Тогда она знала, что делать. Что делать теперь, не знал никто. Папа – тоже. Как глава семьи он привык чувствовать ответственность за всех. Но происходило что-то из ряда вон выходящее, что не в его силах было предотвратить или изменить. Ему казалось, что совсем бездействовать невозможно, нужно хотя бы решить ясные, пусть даже мелкие задачи. Он оделся, поехал на вокзал, сдал в кассу железнодорожные билеты, заблаговременно приготовленные им для поездки семьи на Черное море. Купил свежие газеты. Вернулся домой.
Никто из домашних не расходился. Все точно приросли к месту, боясь пропустить новые важные сообщения. Продолжали слушать радио. Работали и радиоприемник, и черная тарелка ленинградской трансляционной сети. Речь Молотова повторяли несколько раз. Выступали с гневными речами рабочие. Сообщали о тяжелых боях за крепость, которая потом стала известна всем и каждому, – Брестская.
Что происходило дома дальше – совершенно не помню. Наверное, как всегда, вовремя пообедали – это соблюдение привычного режима должно было внести некоторое спокойствие в наши мысли. Наверное, говорили о том, что завтра на службе каждый узнает новые подробности, а может быть, получит какие-то указания, как действовать в дальнейшем – ведь советские люди годами приучались к тому, что их жизнью руководят партия и правительство. Я собиралась пойти в школу, хотя еще в конце мая мы отпраздновали окончание десятого класса традиционной ночной прогулкой по городу, и почти все определили для себя, где учиться, а так называемых «отличников» без экзаменов зачислили в институты.
Вечером по ленинградскому радио объявили первую воздушную тревогу. Было еще относительно светло, как бывает в белую ночь. Вдруг завыла сирена, послышался гул самолетов и хлопанье зениток, небо крест-накрест пересекли лучи прожекторов, время от времени вспыхивали ракеты. Никто не понимал, что это: воздушный налет или наши учебные маневры. Если, как сказал Молотов, немецкие бомбардировщики сразу начали использовать аэродромы Финляндии, то это и был, скорее всего, налет с ближайшей к Ленинграду финской территории. Вой сирены заставил всех подбежать к окнам. Заплакала в кроватке Оленька. Надя взяла ее на руки и тоже зачем-то поднесла к окну. Олю затошнило, да и нам всем стало тошно. Примерно через час все утихло, но спать уже совсем не хотелось. Ребенка снова уложили, а взрослые остались сидеть в столовой. Нужно было решить, что делать завтра.
Отсутствие открытой и точной информации часто заменяли неизвестно откуда принесенные слухи. Наутро в булочной и в магазинах говорили, будто вчера в городе высадились парашютисты и сигналили ракетами немецким самолетам. Кое-кто поспешил купить впрок соль и спички – пожилые обыватели вспоминали гражданскую войну.
Меня послали за сахаром. Просто он у нас кончился. Раньше продукты покупались без моего участия. Я вошла в магазин и увидела, что за сахаром стоит большая очередь. Люди покупают сразу несколько пачек. А я, к стыду своему, даже не знала, сколько стоит сахар, долго соображала, хватит ли у меня денег хотя бы на две пачки, и, в конце концов, купила одну. Домой я пришла несколько растерянная. На мой рассказ о том, что я видела в магазине, папа ответил, что глупые люди сеют панику, и не стоит ей поддаваться.
Прямых последствий вчерашнего воздушного налета никто не видел. Зато паника явно нарастала. Покупали впрок крупу, запасались керосином. Шпиономания, начавшаяся еще во время финской войны, теперь набирала новые силы, множились слухи, подогреваемые возбужденной фантазией населения.
Всюду царило тревожное ожидание каких-то указаний «сверху». На службе все зависели от распоряжений начальства, в обыденной жизни – от решений районных советов. Коммунисты, как особая каста, подчинялись только своим партийным организациям, комсомольцы группировались около старших партийных товарищей и ждали от них указаний. И неудивительно, что на первых порах личная инициатива дремала. Но финская война научила население затемнению, и на второй день войны все позаботились о непроницаемых для света занавесях на окна. У многих они сохранились со времени финской кампании. Приказ о затемнении окон даже немного опоздал. Теперь на оконные стекла быстро начали крест-накрест наклеивать бумагу. Считалось, что во время бомбежки это сделает окна устойчивыми против взрывной волны.
К бомбежкам готовились не только сами горожане. Кроме зенитных батарей, замаскированных и размещенных в городских районах и окрестностях, в противовоздушной обороне участвовали аэростаты воздушного заграждения. По утрам можно было видеть, как небольшие отряды девушек-бойцов тянут их, точно гигантских слонов, за стропы – к местам, где они должны подняться в воздух. Аэростаты, считалось, затрудняли работу вражеской авиации.
Ожидания распоряжений для граждан оправдались очень скоро. Вслед за приказом о светомаскировке во дворах ленинградских домов появилось еще одно объявление: всем жильцам немедленно сдать в домоуправление радиоприемники и пишущие машинки. Очевидно, и радиоаппараты, и даже малые печатающие устройства причислили к возможным орудиям шпионской или антигосударственной деятельности. Вести из внешнего мира должны были поступать к нам отредактированными и только через трансляционную сеть. Москва транслировала сообщения на весь Советский Союз, а ленинградское радио сообщало о воздушных тревогах, о событиях в городе и о распоряжениях городского совета.
С этого времени в перерывах между новостями из Москвы, объявлениями о воздушной тревоге или об артиллерийском обстреле из черных тарелок, установленных в квартирах и в учреждениях, так же как из громкоговорителей на улицах, раздавался звук метронома. Это равномерное тиканье, особенно хорошо слышное в тревожной тишине, имело какое-то особое воздействие на людей: на улицах около черных раструбов радио, укрепленных высоко на столбах, прохожие собирались кучками, и такое совместное ожидание или слушание сообщений объединяло. Создавалось ощущение, что ленинградцы – одна большая семья и город о ней заботится.
У нас в квартире звуку метронома отвечало тиканье больших напольных часов с боем. Они, как страж домашнего порядка, всегда стояли в углу самой большой из наших комнат – в столовой. Папа особенно любил их, и всегда сам подтягивал тяжелые украшенные узором гири, мягкой тряпочкой вытирал золотистый циферблат. И теперь эта перекличка звуков как-то успокаивала наши возбужденные нервы.
Папе было нелегко расстаться со своим любимым радиоприемником, по которому мы все привыкли слушать европейские радиостанции и музыкальные передачи отовсюду. Он понимал, конечно, почему советская власть опасается расширенной информации из-за границы. Я уже писала о том, как мы с ним однажды слышали трансляцию какого-то большого собрания немцев и голос Гитлера. Мы с ним и раньше никому об этом не рассказывали. А теперь лучше всего было вообще забыть об этом радио-эпизоде. И папа понес приемник в домоуправление, прекрасно понимая, что расстается с ним навсегда. Что касается пишущей машинки, то ее у нас давно уже не было. Наверное, она была продана в какую-то трудную минуту, как и некоторые другие ценные вещи.
Папа знал, что он находится вне всяких подозрений в какой-либо антисоветской деятельности, но простое, казалось бы, изъятие личных вещей привело его в состояние растерянности. Он почувствовал, что это только начало каких-то, еще неизвестных ему, более крупных лишений, которые принесет с собой война. И был, конечно, прав.
Каждый день множил тревожные новости. Журналисты, которые еще недавно писали в газетах о дружбе СССР с Германией, теперь не скупились на краски, расписывая вероломство Гитлера и злодеяния немецких захватчиков, быстро продвигающихся по советской земле, и ожесточенное сопротивление им советских бойцов.
И мы не знали, что на самом деле сотни тысяч советских солдат уже попали в окружение и в плен. Говорилось и о расправах немцев на нашей территории, о казнях партизан. И даже об издевательствах фашистов над еврейским населением западных областей страны. Но сейчас-то мы знаем, что страдания евреев на советской территории, занятой немцами, описанные без особых подробностей, как побочное явление войны, на самом деле были реальным продолжением Катастрофы европейского еврейства, начавшейся еще с приходом Гитлера к власти.
После печально знаменитой «Хрустальной ночи» с 9 на 10 ноября 1938 года, когда в Германии подверглись уничтожению сотни немецких синагог, были разграблены еврейские предприятия и магазины, убиты десятки евреев, а десятки тысяч отправлены в концентрационные лагеря, бесчинства по отношению к еврейскому населению охватили все страны Европы, оккупированные вермахтом. Со времени оккупации западных областей СССР налаженная машина уничтожения начала свою дьявольскую работу и на этих территориях.
О том, что творилось немцами в Латвии, Литве, Украине и Белоруссии во всей полноте советские люди узнали по-настоящему только много-много лет спустя после окончания военных действий. История создания и публикации «Черной книги» Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана о повсеместном убийстве евреев во временно оккупированных районах СССР и в лагерях Польши – одно из выразительных свидетельств того, как замалчивалась правда об этом.
Лишь в 1944 году в журнале «Знамя» были опубликованы Эренбургом два отрывка из готовой рукописи. И сразу же издание книги было запрещено властями. В 1948 году готовый набор был рассыпан. Но еще в 1946 году книга вышла в США. На русском языке она была напечатана в 1980 году только в Иерусалиме.
Вполне естественно, что сердцу каждого ленинградца ближе всего было положение в родном городе. То, что происходило у него на глазах, волновало больше, чем происходящее в Европе и даже на ближайших границах. Положение Ленинграда действительно с каждым днем становилось все более угрожающим.
25 июня Финляндия объявила, что находится в состоянии войны с СССР. Это была единственная страна-сосед, которая отстояла свою независимость во время дележа Европы между двумя хищниками-диктаторами. Она сразу после советско-финляндской войны выбрала свой путь и уже активно помогала Германии, не только предоставляя ей аэродромы, но и участвуя в ее планах захвата Ленинграда.
Немцы предполагали завершить захват Северной Пальмиры за три-четыре недели – с севера, с юга и с запада. Город же не был защищен оборонительными укреплениями не только с северной стороны, но и с южной и юго-западной сторон. Население чувствовало, что опасность вторжения немецких войск очень велика. Но, конечно, надеялось на защиту города Красной Армией.
Я очень хорошо помню первые тревожные дни после начала войны. Никакой последовательности в событиях и в их освещении прессой не было. Обо всем, что касалось каждого из нас, мы узнавали постепенно. Почти все ребята из нашего выпускного класса, не сговариваясь, пришли в школу. Преподаватели дежурили там весь день, встречали учеников, старались успокоить.
Максим Максимович, учитель литературы, отвел нас в сторонку и негромко сообщил, что на собрание учителей не пришел Алоиз Карлович Бишоф. Послали за ним на квартиру, и соседка сказала, что исчез он из дома тихо, когда все уже спали. Алоиз Карлович, немец по рождению, замечательно преподавал нам немецкий язык. В школе его любили ученики и коллеги-преподаватели. Все понимали, что его могли арестовать по чьему-нибудь доносу как немца-шпиона или в лучшем случае – выслать из города. Слухи о том, что граждан с немецкими фамилиями выселяют, уже курсировали по Ленинграду.
Наши мальчики рвались в военкоматы. Их возраст еще не был призывным, но все были готовы идти на фронт немедленно. Девочкам предлагали подождать, пока найдется какая-нибудь полезная работа. Все горячо желали быть полезными, и когда мне вместе с моей лучшей подругой Ниночкой Напалковой предложили поехать в отдаленный район Средней Рогатки на прополку каких-то совхозных овощей – мы помчались туда на трамвае, как на праздник.
В опубликованных в Интернете документах обороны Ленинграда я нашла единственное краткое упоминание о совхозном хозяйстве в районе Средней Рогатки. Зато там же подобно сообщалось о старых петербургских заставах, называвшихся «Рогатками», о бывшем дворце Елизаветы Петровны, якобы сохранившемся в этих местах. Никаких следов того и другого мы вокруг не заметили. Перед нами зеленели огороды, и лишь вдалеке громоздились контуры недостроенного Дома советов – очень нового по своим формам сооружения, которое строилось по проекту Ноя Абрамовича Троцкого, яркого представителя ленинградской архитектуры эпохи конструктивизма. Вблизи же от овощных посевов находились несколько деревянных строений да конечная остановка трамвая – «Круг».
Работали мы с Ниной одетые, как на прогулку, в летних платьицах. Пололи сорняки в молодой зелени моркови, свеклы – весело и ловко. У Напалковых в деревне Ярославской области стоял свой дом, летом они растили овощи, так что для Нины это вообще была работа знакомая. Я тоже не отставала, и мы в радостном возбуждении даже напевали что-то, не задумываясь, почему кроме нас на поле нет ни души. Но когда низко в небе закружились самолеты, и с невероятным свистом один из них упал, волоча за собой хвост черного дыма, а потом в небо поднялся столб огня, мы живо покинули свои грядки и едва успели вскочить в последний трамвай, идущий в центр города.
Воздушный бой происходил, скорее всего, в нескольких километрах от огородов, но нам казалось, будто что-то большое и страшное падает прямо на наши головы. Узнав о том, что мы пережили, папа решил, что нас обеих надо держать под присмотром, потому что, быстро позабыв о страхе, мы продолжали жаждать деятельности. Он считал нас детьми, еще совершенно не готовыми к опасностям военного времени. И чтобы мы не вздумали записаться в какие-нибудь военные дружины или на курсы медсестер, он каждую из нас устроил на службу в своем управлении канцелярскими и книжными магазинами.
Мы стали ученицами продавцов. Я – в книжном магазине, а Нина – в магазине канцелярских товаров. Управление еще функционировало. Мамина поликлиника тоже продолжала работать, как прежде.
После первой, так напугавшей всех воздушной тревоги, в небе было тихо. Казалось, враг оставил нас на время в покое. В эти недели июня в городе еще можно было найти какие-то уголки, где еще сохранялась иллюзия мирного времени.
И в самом деле, ничто не менялось в книжном или канцелярском магазине, где мы с Ниной теперь работали. Сюда приходили завсегдатаи, покупали то, в чем они всегда нуждались, что не перестали любить оттого, что началась война. Нам нравилось чувствовать себя просто служащими. Рано вставать и ехать на службу. Особенно тогда, когда старшие работники поручали нам по утрам открывать магазин или отвечать на телефонные звонки.
Я наслаждалась, оказавшись вдруг в царстве книг, таком любимом с раннего детства, и таком богатом. Любую книгу я могла взять и рассматривать в свободные минуты. В нашем магазине существовал небольшой букинистический отдел. Почти всех покупателей директор и старшие продавцы знали, у некоторых брали заказы на редкие издания.
Здесь не говорили о новостях с фронта или о том, какие продукты надо спешить закупать на черный день. Интеллигентного вида пожилые люди беседовали о литературе, обменивались информацией о новых изданиях. Я, как будущая студентка-филолог, слушала все с большим вниманием.
Однажды меня познакомили с особенно уважаемым покупателем – молодым человеком, очень бойким и говорливым. Он галантно поздоровался и сказал: меня зовут Никита Толстой – так просто, как если бы он сказал, что его зовут Иванов или Сидоров. А в моем мозгу пронеслось: Никита Толстой – неужели это тот мальчик, о котором написано «Детство Никиты»?
Его отца, знаменитого писателя Алексея Толстого, мы с Надей еще недавно слушали в Доме Архитектора: он читал там только что написанные главы «Хмурого утра».
Только теперь, разбираясь в сложной родословной Толстых, я узнала, что Никита Алексеевич уже тогда преподавал в Ленинградском университете. Он покупал книги по западноевропейской истории и, если попадались, редкие издания на французском языке. В 1942 году он ушел на фронт. Впоследствии Никита Алексеевич стал известным ученым-физиком. Он умер в 1994 году.
Мы с Ниной обе успели кое-чему научиться на нашей службе: могли красиво упаковать покупку, рассказать о новых поступлениях или об интересной книге. Какое-то время покупатели приходили, как обычно. Но вскоре оба магазина закрылись, и мои восторги по поводу счастливого времени среди книг рассеялись, как дым.
Потом Напалковы тоже закрыли свою квартиру на Разъезжей улице и уехали к себе в деревню. А я еще слонялась какое-то время по летнему городу, заглядывая в любимые места и наблюдая, как укрывают от воздушных налетов главные достопримечательности, и прежде всего – скульптуры.
Раньше всего надели большой деревянный колпак на «Медного всадника». А памятник Петру у Инженерного замка и конные статуи Клодта на Аничковом мосту спрятали в земле. На «Адмиралтейскую иглу» натянули чехол из мешковины. Верхолазы-альпинисты зачехлили кораблик-флюгер и круглое «яблоко» под шпилем. Золотой шпиль Петропавловской крепости покрасили густой серой краской – все это, чтобы высотные точки архитектуры не служили ориентирами вражеским самолетам. Также покрасили золотые купола Исаакиевского собора и Никольского собора, что около Консерватории, и Мариинского театра.
Несмотря на все вынужденные изменения, родной город казался мне особенно красивым в эти летние дни. Погода стояла на редкость ясная и теплая. Пышная и свежая еще зелень деревьев, море сирени, потом – черемухи, цветущие кусты и газоны – все сияло под лучами солнца. А белые ночи, как всегда, поражали поздними зорями и ранними рассветами. И странно, и грустно было, глядя на это, думать о войне.
В конце июня началась запись добровольцев в Народное ополчение. Решение о формировании армии Народного ополчения Ленинградский горком партии принял 27 июня. Через три дня во всех районах города открылись пункты приема заявлений. Один из таких разместился совсем близко от нашего дома, на улице Правды 20. Другие – в пустующих в летнее время школах. Районные военкоматы (так еще с первых лет гражданской войны назывались военные комиссариаты) занимались приемом военнообязанных, получивших повестки о мобилизации в регулярную армию.
Название добровольческих отрядов «ополчением» возникло вслед за упоминанием в речи Молотова о народной войне против Наполеона. Этот удачно приведенный исторический пример оказал большое психологическое воздействие на гражданские чувства. Вспоминали Дениса Давыдова, героев «Войны и мира» Толстого. В ополчение шли люди разных возрастов, разных профессий: молодые и пожилые, рабочие и служащие, профессора и студенты учебных заведений. В добровольческие отряды записывались люди, служившие и никогда не служившие в армии, и даже имеющие освобождение от военной службы по болезни.
Вскоре началось формирование рот, батальонов и даже дивизий. Первые небольшие группы добровольцев наскоро проходили военное обучение. На улицах можно было видеть отряды, еще не обмундированные, с винтовками старого образца. Да и тех не хватало. Новобранцев обучали хождению в строю, стрельбе и рытью траншей. О том, каково было вооружение ополченцев, красноречиво говорил плакат с таким текстом: «Товарищ! Вступай в ряды народного ополчения. Винтовку добудешь в бою».
Учения шли на спортивных площадках, в садах и парках. Помню, я зашла в Летний сад посмотреть, как укрыли скульптуры (раньше их укрывали к зиме поздней осенью), и увидела свежевырытые траншеи около пруда с лебедями. Птиц, вероятно, увезли в зоопарк. На Марсовом поле вырыли щели, чтобы люди могли укрыться во время бомбежек.
В эти дни вступил в ополчение Надин муж, Исаак. Он сообщил нам об этом неожиданно, как о свершившемся факте, чтобы избежать ненужных семейных разговоров.
Сестра и мама приняли известие с большой тревогой за его здоровье, поскольку он был полностью освобожден от службы в армии из-за тяжелой травмы позвоночника. Старая болезнь и в домашних мирных условиях часто напоминала ему о себе онемением пальцев рук.
Я гордилась тем, что член нашей семьи будет воевать. А папа был глубоко оскорблен: зять не посчитал нужным сообщить ему о своем решении заранее.
Через некоторое время Исаак пришел домой, чтобы спокойно поговорить с нами. Его отпустили ненадолго. Поскольку он прошел в свое время двухлетнюю военную службу и был инженером по профессии, военное начальство приказало ему принять под командование роту саперов.
В начале июля многие ленинградцы, особенно те, у кого были дети, уезжали из города. Люди ехали к родственникам. Одни – в Вологодскую, Ярославскую, Кировскую области. Другие – в среднюю Россию или за Урал и даже на Кавказ. В эти места еще продавали железнодорожные билеты.
Одновременно городские власти готовили к эвакуации некоторые стратегически важные учреждения и институты. Так, институт Гипромез, где работал отчим другой моей очень близкой школьной подруги – Лили Таль, Лилёши, как мы с Ниной ее называли, в полном составе уехал в Свердловск.
Теперь я одна из нашей дружной троицы оставалась в Ленинграде. В начале августа начали эвакуировать ленинградские театры, вывозить сокровища музеев. Организованно вывозили детские сады, интернаты. Союз архитекторов, членом которого была наша Надя, тоже составлял списки детей для эвакуации.
Каждую неделю облик Ленинграда менялся в соответствии с условиями военного времени. Июльские бомбежки город встречал уже организованно. В домах образовали группы противовоздушной защиты. Жильцы дежурили на крышах домов во время воздушных тревог.
На чердаках стояли бочки с песком и водой. Дежурным раздавали огромные щипцы и большие брезентовые рукавицы для тушения мелких зажигательных бомб. «Зажигалки» со звоном и треском сыпались на железные кровли ленинградских крыш. Их надо было хватать щипцами и окунать в бочки.
Папа приободрился и с энтузиазмом и бесстрашием вошел в такую группу жильцов нашего дома. Я дежурила вместе с ним. Мы поднимались на чердак и скоро научились быстро гасить зажигалки. Работа была не безопасной. Бочки стояли у выходов на крышу, а бомбы падали, где им вздумается. Их еще приходилось доставать. Папа восхищал меня своей ловкостью. К счастью, скат нашей крыши не был очень крутым, но меня папа на него не выпускал, я стояла у бочек и помогала ему.
Под впечатлением всех военных приготовлений в городе Надя решила, что Оленьку надо эвакуировать. В Союзе архитекторов торопили родителей с решением вывезти детей из Ленинграда. Готовили сопровождающих из жен архитекторов, чьи дети уже числились в списках. Подбирали врачей, запасались медикаментами. И Наде с Исааком, да и нам с мамой казалось, что девочке будет лучше в глубоком тылу.
Больше всех сомневался в этом и тревожился папа. А мы? Как мы могли не думать о том, что с ребенком может случиться беда, когда рядом не будет матери? Не знаю. Сейчас такое легкомыслие кажется диким, его можно объяснить только нараставшим тогда психологическим шоком, страхом перед неизвестными опасностями войны и не иначе, как безумной верой в мифическую коллективную ответственность.
И вот 5 июля Надя с Исааком провожали дочку в эвакуацию. Архитектурный фонд объединил старших детей в так называемый интернат, а младшие по возрасту составили детский сад. Выезд такого большого и довольно пестрого детского коллектива имел назначение в город Гаврилов Ям, Ярославской области.
Место это со странным для современного уха названием появилось еще в XVI веке на землях Троице-Сергиевского монастыря. В ближнем селе когда-то был Ям – станция, где держали разгонных ямских лошадей для проезда по Ростово-Суздальскому тракту. В 1938 году Гаврилову Яму присвоили статус города. К началу войны это был зеленый, живописно расположенный городок с одноэтажной застройкой, лесистыми окрестностями и давно заросшим оврагом.
Выносливые лошадки из поколения в поколение долго служили городу, пока к этому исконному и более чем привычному для жителей транспорту в конце тридцатых годов не прибавился безотказный, вездеходный грузовичок – из тех знаменитых «полуторок», что выпускал Горьковский автомобильный завод. На них возили все – промышленные изделия и плоды сельского хозяйства, любые другие товары и людей. Всюду городские мальчишки увлекались в те годы этой машиной, как теперь увлекаются иномарками. Норовили попросить шоферов немного прокатить, показать устройство или хотя бы разрешить посидеть в кабине, блиставшей тогда коричневым полированным деревом. Я еще вспомню эту легендарную полуторку не раз: когда буду рассказывать о ледовой трассе Ладоги и о другом старинном городе и колхозном селе на Урале.
Детей, прибывших из Ленинграда, разместили в школе. Спали они первое время на полу, застеленном матрацами, пока не появились кровати. Но и тех не хватало, некоторым пришлось спать по двое на одной.
Не сразу удалось наладить питание. Кусок хлеба и жидкая манная каша, в которую можно было этот хлеб накрошить, запомнились маленькой Оле. Так же как подвал здания, где была, скорее всего, общественная столовая. Здесь несколько женщин чистили и рубили капусту, и детям иногда через открытое окно доставались вкусные кочерыжки.
Пока сопровождающие интернат – жены архитекторов и два доктора – занимались устройством коллективного быта, старшие бегали на базар смотреть на свежие помидоры и огурцы, на лесные ягоды и другие недоступные им роскошества. Младшие увязывались за ними. Заключались первые дружеские союзы, но случались и дерзкие шутки, старшие пугали и дразнили маленьких. Труднее всего было тем, кто был домашним ребенком и еще не вкусил обычаев детского сада или пионерского лагеря, не привык к детскому коллективу. Особенно страдали такие ребятишки, как наша Оленька, воспитанные няней и любящей бабушкой.
Нашей девочке еще не было восьми лет, и ее отправили из дому вместе с двенадцатилетней Риточкой, дочкой маминого племянника Яши Дорошева. Им как раз и пришлось спать вдвоем. Зато их кровать считалась образцовой – так красиво и аккуратно каждое утро убирала ее Рита.
Очень скоро, однако, Риту забрали к себе дальние родственники из Рыбинска. Родители, которым еще посчастливилось выехать из Ленинграда, старались забирать своих ребят.
Оленька горько плакала, оставшись одна среди малознакомых старших детей, все ждала, что кто-нибудь за ней приедет. Но шли дни и недели, Ленинград уже был окружен, и все оставшиеся там родители могли только радоваться, что дети, как им казалось, на воле и в безопасности.
Тем временем немцы приближались к Москве, и в Гавриловом Яме стало неспокойно. К началу зимы руководство получило от Союза Архитекторов указание перевезти детей в глубь России. Местом нового пребывания интерната с детским садом должно было стать сибирское село Емуртла.
Когда родителям эвакуированных детей сообщили о том, что детям предстоит еще одна долгая дорога, нас охватило беспокойство. Как выдержит девочка этот дальний путь, как переживет сибирскую зиму? Но делать было нечего. Фронт приближался к Ленинграду с каждым днем и часом, и мы старались себя уверить в том, что поступили правильно, отправив Оленьку подальше от фронтового города.
Вспоминали, как встречали в 1936-37-м годах детей из охваченной войной Испании. Тогда пионерская организация направила меня встречать маленьких испанцев в ленинградском Дворце пионеров. Встречи были обставлены как большой праздник. Все мы были в пионерской форме: в синих юбках и белых блузках, мальчики в брюках и белых рубашках с красными галстуками, и каждый держал в руках такой же галстук для маленького испанца.
Большими партиями их присылали в Ленинград на пароходах, а затем распределяли по детским учреждениям. Вот и теперь, не только мы, но и другие, привыкшие к коллективному сознанию советские родители, думали, что надо любым способом отправлять детей подальше от войны, чтобы спасти им жизнь.
* * *
Примерно в это время по городской почте на мое имя пришла открытка из Университета. Короткий текст открытки гласил, что студентка первого курса филологического факультета имярек должна явиться в Главное здание Университета для отправки на строительство оборонительных рубежей. Одежда спортивная, с собой иметь кружку, ложку, миску, запас сахара и сухарей на три дня.
О том, что многие городские учреждения посылают своих работников в Кингисепп или на Южное и Юго-Западное направление, в городе знали. Быстро нашлось и бытовое название таким мероприятиям: «ехать на окопы». На разных подступах к Ленинграду жители города рыли не в буквальном смысле окопы, а противотанковые рвы. Мыслилось, что они приостановят немецкое блиц-наступление. Кого-то направляли в район Луги. Нас посылали в окрестности Новгорода.
Но в районе Луги завершить строительство оборонительных рубежей не удалось. Немцы захватили этот район в результате мощного наступления.
Теперь важнейшим для них стало новгородское направление. К 10 июля они уже овладели всей Прибалтикой, вскоре взяли Порхов (родной город моей няни) и теперь двигались к Новгороду.
Папа прекрасно понимал, что мы, так же как под Лугой, с нашими недостроенными окопами можем оказаться в районе военных действий. 8 августа о наступлении на новгородском направлении писали все газеты.
Я не хотела слушать папиных возражений и доводов против моей поездки. В газетах он читал о том, что на оккупированных территориях фашисты особенно жестоко расправляются с коммунистами и комсомольцами. Он просил меня хотя бы оставить дома и спрятать комсомольский билет. Я ответила резким, даже грубым по нашим семейным понятиям отказом.
Это была первая ссора с папой. Для меня – только юношеский бунт, праздник непослушания после долгих лет беспрекословного добровольного детского подчинения. Для него – глубокая обида: снова он чувствовал, что его совета не спрашивают, что он теряет авторитет в своей семье.
В доме у нас, надо сказать, редко ссорились. В детстве мне, правда, иногда случалось, проснувшись, быть невольным свидетелем размолвок родителей. Но у нас ни на кого и никогда не кричали. Мое детское сердечко трепетало при виде тихих маминых слез и строгого выражения папиного лица, когда он настойчиво что-то выговаривал ей. Она убеждала в чем-то своем. Потом они мирились, и он, улыбаясь, как всегда, заботливо обнимал маму.
Он был очень нежным с ней. Называл ее всегда уменьшительным именем «Милечка», любил дарить подарки, одевать ее. Отправляя на службу, подавал пальто, проходился одежной щеточкой по плечам и воротнику. Потом просил повернуться и одобрял, добавляя свое неизменное: «Приходи вовремя!». Приходить вовремя – это был его «пунктик», нечто вроде заклинания. То же самое он говорил мне, провожая в школу. Просто, я думаю, он очень любил нас всех и боялся потерять.
Ломалось все семейное благополучие. Представляю себе, как ему было страшно, и как он скрывал свой страх теперь, когда шла война, и каждый день ждали чего-то неизвестного.
Наша с папой ссора постепенно утихла. Он помог мне собрать указанные в открытке вещи и сложить их в небольшой рюкзачок, с которым я обычно ходила на лыжах. Ничего не предвещало каких-то особых трудностей и опасностей. Я собиралась хоть и возбужденно, но весело, как будто ехала на загородную прогулку. В рюкзаке лежали пакеты с сухарями, сахаром, простыми карамельками. Папа подумал и положил туда, кроме указанных в открытке вещей, перочинный нож и пару свежих бутербродов.
* * *
На небольшой площади у заднего фасада здания Двенадцати коллегий утром 12 августа собрались студенты, вернее, студентки, получившие такие же открытки, как я. Очевидно, юноши, не ушедшие на фронт, использовались на других общественных работах. Я обратила внимание на то, что некоторые девушки одеты довольно легкомысленно, в легких летних платьях или блузках. В таких же примерно нарядах мы с Ниной Напалковой еще недавно работали на огородах.
Папа, отчаявшись отговорить меня от поездки, добился лишь одного: чтобы я надела легкий спортивный костюм, а платье положила в рюкзак.
Много раз потом, в холодные ночи в лесу или на болоте, я мысленно благодарила его за это.
Нас собралось примерно человек сто, может быть, чуть больше. Командирами назначили двух или трех студенток старших курсов, они сверяли фамилии тех, кто пришел, с составленными в университете списками. Явились по призыву почти все. У всех за плечами рюкзаки.
Командиры, получившие задание накануне, уверенно повели наш отряд на Витебский вокзал, где стоял железнодорожный состав из товарных вагонов-теплушек. В веселом настроении мы разошлись по вагонам, и поезд тронулся. В открытых наполовину дверях теплушек видно было, как проплывают назад ленинградские пригороды.
Наш командир Валя затянула «Бригантину». Эту песню, которую сочинил московский студент Литературного института Павел Коган, сказала она, должен знать каждый. Говорили, что он ушел на фронт добровольцем, но еще никто не знал, что в сентябре следующего 1942 года ему суждено будет погибнуть в боях за Новороссийск. Мы запоминали слова «Бригантины» и пели почти всю дорогу ее и другие веселые песни.
Пунктом прибытия нашего отряда значилась станция Батецкая. Во всех документах и на всех картах военных сражений за Ленинград эта, сравнительно небольшая железнодорожная станция, отмечается как важный стратегический пункт в боях за Новгород.
По обе стороны железнодорожных путей здесь шли леса. Небольшое станционное здание по левую сторону дороги из Ленинграда тоже располагалось у кромки леса. Нас высадили на стороне, противоположной вокзалу, построили, и человек в полувоенной форме, который ждал нас, повел отряд по узкой дороге в глубь лесного массива.
Мы шли довольно долго, наконец показалась деревушка, где стояла небольшая военная часть. Обитателей деревни – крестьян – не было видно. Скотины тоже. Все, видимо, ушли, не дожидаясь приближения боев.
Солдаты занимались своим, каким-то малопонятным делом за опушкой, в соседнем лесу. Как видно было, недавно они отобедали, и полевая кухня еще дымилась. Пахло вареной капустой и лавровым листом.
Веселый молоденький повар от души накормил всех вновь прибывших. Густые солдатские щи и перловая каша с подсолнечным маслом показались нам пищей богов. А главное, мы уже испытывали сладкое чувство причастности к обороне Ленинграда.
После обеда руководитель предстоящих нам работ собрал отряд и объяснил задачу. Противотанковый ров, частично уже отрытый, по замыслу военных инженеров имел одну отвесную стену, к которой вел длинный глубокий скат. Этот скат нам предлагалось покрыть свежим дерном так, чтобы он производил впечатление естественного склона. Считалось, что если танк спустится по нему, то упрется в высокую преграду и застрянет перед ней.
Нас разместили в теплых еще избах на соломенных матрасах и выдали тяжелые острые железные лопаты. Наутро мы уже вдохновенно трудились, хотя резать дерн и выкладывать зелеными травяными кирпичиками скат вырытого нашими предшественниками рва нам казалось странным – точно мы занимались декоративным садоводством.
К концу первого рабочего дня на руках у многих девушек уже появились волдыри. Но размышлять особенно не приходилось. С утра до вечера работа, солдатский обед, снова работа, еще одна легкая еда и крепкий сон в теплой деревенской избе.
Так прошли несколько дней нашей прифронтовой жизни. Ров был глубокий и длинный, сделали мы уже больше половины того, что требовалось. Кровавые мозоли от тяжелых лопат начинали заживать.
И вот однажды утром, когда мы все стояли наверху, над озелененным рвом, послышался отвратительный скрежет летящего немецкого самолета, знакомый нам по воздушным тревогам в городе.
Это был, надо думать, самолет-разведчик. Он кружил низко, на бреющем полете, прямо над нами. На одном из виражей из кабины выглянула голова в шлеме и очках – совсем так, как показывали в документальных выпусках «Новостей дня» в кино.
Мы смотрели на него как завороженные. И вдруг раздался треск пулеметной очереди. Летчик точным прицелом прошелся по краю рва, к великому счастью, не задев никого из нас, и взмыл в небо.
Мы поняли, что фронт все больше приближается, но еще продолжали работать.
Вскоре наши друзья-солдатики без лишнего шума очень быстро снялись с места. Уехала полевая кухня, ушли саперы, перетаскивая на две телеги, запряженные крестьянскими лошадьми, тяжелые ящики с таинственным содержимым. И никаких следов их пребывания около нас не осталось.
Стало тихо и пусто. И в этой тишине особенно громко забухала канонада. Большой бой шел теперь совсем близко: таких звуков в Ленинграде еще не слышалось. Ясно было, что начинается что-то очень серьезное, что потребует от нас еще невиданного напряжения сил и нервов. Мы оставили работу и ждали, что скажут руководители. Темп событий стремительно ускорялся. Старшие срочно собрались на совещание.
Наконец начальник нашей «великой стройки» велел собрать студентов. Последовала короткая команда: взять вещи и бегом перебраться поближе к лесу. Мы поняли, что будем уходить подальше от надвигающегося фронта, но еще не знали, как и куда.
Через некоторое время откуда-то появилась совсем небольшая группа – человек пять – солдат морской пехоты. Точно в таких бушлатах и бескозырках, как на картинках или плакатах. Их старшина, надо сказать, весьма суровый на вид, объяснил, что по приказу Ворошилова, командующего Ленинградским фронтом, им поручено вывести нас через заминированный лес к линии железной дороги, и как можно скорее отправить в Ленинград.
Неужели о нас доложили Ворошилову? Значит, дело так плохо?
Хотя само сообщение об отправке домой нас обрадовало, последовавшие за ним инструкции напугали. Скорее всего, легкомысленный вид вчерашних школьниц заставил командира группы моряков сгустить краски. Он потребовал от нас жесткой военной дисциплины и буквально оглушил короткими приказаниями: «Идти за нами быстро, цепочкой, след в след, в абсолютной тишине. Все лесные дороги заминированы. Смотреть внимательно под ноги: там, где земля рыхлая, заложены мины. За шум, разговоры, тем более крики – стреляем без предупреждения».
«Стреляем»? Неужели они способны стрелять в нас, девчонок, то есть в своих? Я быстро отогнала от себя подобную мысль. Но запомнила ту лаконичную речь навсегда. И сейчас, кажется, слышу рубленые повелительные интонации матроса. Для наглядности он вынул откуда-то из куртки не зачехленный пистолет. Скорее всего, он не предполагал, что запугивание сыграет с кем-то из нас очень злую шутку.
С военной точки зрения операция по спасению группы студентов была, должно быть, хорошо продумана, но где-то «в верхах» не учли, что передвижение сотни девиц (а с нами была еще и мать одной из студенток) по заминированным тропам окажется совсем не легким мероприятием.
Как только стемнело, мы гуськом двинулись за военными. Я, правда, до сих пор не понимаю, почему все они оказались впереди, и наш отряд никто из моряков не замыкал? И до сих пор не нахожу ответа на этот вопрос. Почему???
Так и шли мы, ступая строго след в след друг другу, обходя рыхлые бугорки земли – места заложенных мин. Вот чем, оказывается, занимались здесь солдатики-саперы из оставленной нами деревни.
Мы продолжали идти. Прошло еще некоторое время… Могучий новгородский лес обступил нас. Скоро стало совсем темно. Лишь тысячи зеленых и синих огоньков замерцали повсюду под деревьями. Это светились гнилушки – не зря их называют светлячками. Мне они сразу напомнили какие-то театральные декорации в нашем Мариинском оперном театре, то ли к «Ивану Сусанину», то ли к «Русалке» – в обоих спектаклях присутствовал таинственный лес. Наверное, с точки зрения психологии такого рода неожиданные зрительные ассоциации в минуту опасности – естественная защита организма от страха.
По мере продвижения отряда вперед все труднее становилось видеть всю цепочку студенток. Перед глазами колыхалась только спина идущего впереди.
Я шла, наверное, близко к середине отряда, за мной оставалось человек шестьдесят, когда движение непонятно отчего внезапно прервалось. Перед нами открылся довольно глубокий сухой овраг. Стало быть, во время переправы через него наш «хвост» оторвался от основного отряда.
Теперь наступила особенно тревожная тишина: громко выяснять, что случилось, боялись все, тем более – разговаривать или кричать и звать на помощь.
Пусть бы моряки стреляли, раз такая возможность допускалась – не в нас, конечно, а для того, чтобы мы могли по звуку выстрелов понять, куда нам двигаться!
Нет. Стояла гробовая тишина. Лес спал.
Из старших с нами была только Валя, которая учила петь «Бригантину». Потихоньку мы разобрались в ситуации, передавая друг другу, как в игре в испорченный телефон, неприятную весть. Овраг не могла преодолеть пожилая мама студентки, и, опасаясь стрельбы, вся передняя группа молча ушла далеко вперед.
Много лет после всего, что происходило с нами в лесу, я задавала себе вопрос: как могли военные моряки оставить половину студенческого отряда без единого ориентира на заминированной местности? И почему они были уверены в том, что немецкие танки просто так попадут в ловушку и полезут в красиво озелененные рвы? Не для того ли летал над нами разведчик, чтобы увидеть, как слева или справа обойти это чудо декоративного искусства?
Мы же тогда понимали только одно: надо во что бы то ни стало догонять ушедших вперед. И винили в отрыве от них только самих себя: нас ведь предупреждали…
Несколько часов мы одни колесили по темному лесу, придерживаясь тропки, которая, к счастью, продолжалась за оврагом. Но никого не видели в темной чаще. Вспоминали наставления военных, как различать на земле едва заметные участки рыхлой земли. Наконец, те, кто шел впереди, увидели сквозь деревья что-то вроде привала. Люди в военной форме сидели и лежали на земле.
Первым ощущением был испуг: неужели немцы? Ведь моряки говорили, что они уже где-то близко.
Нет, эти люди были в знакомых советских пилотках. И совершенно позабыв о том, что надо соблюдать тишину, мы бросились к ним и заговорили сразу все и сразу обо всем.
Это были остатки роты народного ополчения, организованной на Кировском заводе. Пожилые рабочие записались в добровольческие отряды в дни формирования 1-й ленинградской дивизии. Их быстро обмундировали, вооружили тем, что имелось для оснащения добровольцев, и так же наскоро обучили. Свой фронтовой путь дивизия тоже начинала на станции Батецкая, откуда ее направили далеко в глубь района, к линии фронта.
В своих воспоминаниях Даниил Гранин тоже подробно описывает один из маленьких эпизодов этой истории. Ему пришлось примкнуть к окруженному солдатскому отряду. В одном из первых боев за Новгород рота оказалась отрезанной от своей дивизии.
Бойцы, оставшись в лесу, прекрасно понимали, что находятся в окружении. Мы этого еще не осознали. Они отдыхали перед тем, как двинуться в обход немецкого клина и пробиваться к своим товарищам. Где-то рядом стояли две, может быть, три лошади – в темноте трудно было разглядеть что-либо еще из ротного хозяйства.
Услышав о том, что произошло с нами, солдаты уговорили нас прежде всего оглядеться и отдохнуть. Некоторые расстелили свои шинели на земле и предлагали присесть, успокоиться. Кто-то доставал из мешков сухой паек, чтобы поделиться с нами. В ответ мы повытаскивали из своих рюкзаков сухари, сахар, у кого были – конфеты и угощали военных. Пошли тихие разговоры, взаимные рассказы, послышались даже шутки.
Так прошло, может быть, чуть больше получаса, когда вдруг послышался цокот копыт. Верховой, явно командир в солидном чине (я разглядела шпалы на его воротнике) обследовал местность. Скорее всего, о положении солдат он уже знал, но когда увидел среди них еще и кучку растерянных девиц, вышел, что называется, из себя. Мы услышали разъяренный окрик с семиэтажным матом и следующие слова: «А вы–то откуда тут взялись!? Вы, что ж, не понимаете, что кругом немцы? Не хватало еще с вами возиться, когда солдатам надо из окружения выходить! Теперь вам плохо придется: отсюда на Ленинград осталась одна дорога – через болото! Да вставайте же! И двигайтесь живо, если не хотите попасть в лапы к немцам».
Он подозвал командира роты, достал карту и долго с ним говорил. Разговор, надо думать, шел не только о нас, но мы чувствовали, что наше положение тоже обсуждается. Можете себе представить, как мы волновались.
Наконец сердитый командир повернул своего коня и ускакал, а ротный подошел к нам. Он получил указание провести нас к месту, откуда мы сможем сами найти дорогу к станции Батецкой. А там встретиться с ушедшим вперед отрядом и ждать отправки в Ленинград.
Только в августе 2022 года, перечитывая свои военные записки, я начинаю понимать, что в августе 1945-го существовал еще один, «сухой» путь к железнодорожной станции, который от нас – девчонок – скрывали.
«Молодые, как-нибудь доберутся», – посчитало местное мелкое начальство, поскольку на руках у него были более важные персоны «окруженцев», которые срочно нужно было в целости и сохранности доставить в Ленинград.
Некоторые из солдат, между тем, приготовили записки с номерами телефонов своих семей. Просили только об одном: позвонить и сказать, что мы видели их живыми. Ни слова об окружении.
Командир подозвал двоих солдат, объяснил задачу, и мы двинулись вместе с ними в лес. Один из них вел с собой лошадь. Мы еще не понимали, зачем, и не знали, какое испытание ждет нас в новом переходе.
Меня больше всего огорчало то, что наш труд у покинутого рва оказался бесполезным. Неужели папа все предвидел? У меня были веские основания для таких размышлений. Разумеется, делиться своими невеселыми мыслями с кем-нибудь из своих товарищей по несчастью я не стала.
И вот, постепенно выйдя из глухого темного леса, мы очутились на открытом пространстве перед последним препятствием, которое осталось преодолеть, чтобы выбраться, наконец, из кольца окружения.
Перед нами расстилалось болото.
В сером предрассветном времени нового дня оно казалось бесконечным. Думаю, что в действительности нам предстояло преодолеть километра полтора зыбкой поверхности. Но кто знал, какие под ней скрыты глубины?
От противоположного берега, от края болота, в серых мглистых красках рассвета поднимался легкий, похожий на облачко пар. Это утренний туман предстоящего жаркого дня стелился по поверхности земли. Небо почти сливалось с темной, едва поблескивающей стоячей водой. Среди зеленовато-коричневой жижи виднелись мохнатые кочки – слабые признаки тверди. Передвигаться по ним можно было только быстро, перескакивая с одной на другую.
Вот когда пригодилась солдатская лошадка. Ее первую понудили сделать шаг, и она не отпрянула назад. Наша переправа началась.
Мне до сих пор не очень понятно, как могло благополучно закончиться это «хождение по водам». Возможно, мы находились в том состоянии наивысшего нервного и физического напряжения, в котором человек способен на непосильный в обычных условиях рывок.
Мы быстро бежали по кочкам и даже по очереди несли на руках, скрещенных стульчиком, пожилую маму. Добрые провожатые сами проверили первые метры зыбкой дороги и не ушли, пока не убедились, что их подопечные добрались до суши.
Сколько времени продолжался этот переход – мгновение или вечность – отсчитывал, думаю, только стук наших сердец.
Обессилевшие от напряжения и страха, все сначала бросились наземь, чтобы отдышаться. И только убедившись, что никто не отстал, двинулись к видневшемуся вдалеке лесу, который, как нам объяснили на привале, должен был привести к железнодорожной насыпи.
Однако предстояло еще как можно быстрее добраться до нее.
Постепенно становилось все светлее, и мы понимали, что наши жизни зависят от того, как скоро мы доберемся.
Мы шли очень быстро, молча, еще не до конца веря тому, что находимся почти в безопасности. Продолжалась какая-то инстинктивная инерция движения: скорее, скорее вперед.
Показалось, что удивительно быстро на прогалине мы увидели оторвавшийся от нас авангард. Девицы спешно доедали свои припасы перед тем, как двинуться к станции, и, увидев нас, закричали, загомонили, стали что-то объяснять, спрашивать, по какой дороге мы шли.
Оказалось, что моряки провели их по лесу, зная, как обойти болото стороной! Затем они исчезли так же неожиданно, как появились.
Значит был еще один обходной путь в сторону Батецкой? Тот, который не угрожал жизням наших ребят? И не угрожал бы нам, если бы нас по нему направили? Очевидно так.
Что значили для маленького начальника шестьдесят наших юных жизней? Здесь правила бал психология: «Война все спишет, молодые, доберутся как-нибудь!»
Мы молча выслушали сбивчивый гомон счастливцев, которые избежали скачки по болоту. Все слишком устали и еще не избавились от страха, чтобы пускаться в рассказы о своих блужданиях по лесу. До станции оставалось пройти не больше километра. На наше счастье, тропинка вдоль насыпи пряталась среди деревьев.
Между тем незаметно кончился рассвет, и ясное летнее утро торжественно воцарилось над лесом.
Светило солнце, немцы совершали свой ежедневный утренний облет прифронтовых зон. Батецкую они бомбили уже не раз, и поезда стояли далеко на запасных путях.
Для нас приготовили маленький дачный состав из четырех стареньких вагонов с паровозом. Железнодорожники отогнали его на порядочное расстояние от станционного помещения.
Прямо с насыпи мы вскарабкались в вагоны и расселись по скамейкам. Кто-то из служащих прошел мимо, стуча молотком по колесам, и посоветовал сразу ложиться на пол, когда услышим летящие самолеты. Станция Батецкая, так же как и ее маленький вокзал, принадлежали теперь фронту.
Наш кургузый четырехвагонный состав наконец тронулся. Но не успел он пройти первый десяток километров, как в небе послышался знакомый омерзительный звук. Появились немецкие самолеты. Все приготовились лечь под скамейки. И почти одновременно с шумом летящих бомбардировщиков в небе разразилась гроза.
Кругом засверкало, загремело, страшный ливень загромыхал по железным крышам вагонов. Поезд мчался теперь на немыслимой скорости под звуки спасительного небесного грома. Позади нас оставалась смертельная опасность, пережитый страх и острое чувство войны, которое мы даже не успели осмыслить до конца.
Через некоторое время показались родные ленинградские пригороды. Здесь было до странности тихо. Стояла ясная сухая погода. Еще несколько минут, и наш куцый состав медленно въехал под знакомую стеклянную крышу Витебского вокзала.
Мы гурьбой высыпали на улицу. Наскоро прощались друг с дружкой, глядя по сторонам. Кто-то, как я, искал телефон-автомат, чтобы позвонить домой, кто-то бежал на трамвайную остановку. Трамваи еще ходили. На обычном месте, на углу Загородного проспекта, в маленькой торговой палатке продавали эскимо и пломбир.
И все же что-то новое виделось повсюду. Один за другим проезжали крытые брезентом грузовики с солдатами, и все больше становилось других военных примет. Мешки с песком закрывали витрины магазинов. Фанерные щиты виднелись в окнах первых этажей многих домов. Особенно родным в этой обстановке казался нам город, и, вместе с нежностью к нему, билось в голове радостное сознание того, что мы живы. Я спросила идущую навстречу женщину: «Какое сегодня число?» (за работой в деревеньке мы не считали дней и чисел).
Женщина очень удивилась, но, глядя на мой рюкзак за спиной, что-то, видно, поняла и с улыбкой ответила: «Восемнадцатое, девочка!»
Я поблагодарила и пошла к телефону-автомату. У меня были мелкие монеты, чтобы позвонить родителям. Дома телефон молчал. Я набрала номер стоматологической поликлиники, и мама спокойным ласковым голосом сказала то, чего я меньше всего ждала: «Как хорошо, что ты вернулась, беги домой, я приготовила твое любимое жаркое с молодой картошкой».
Ни единого намека на глубоко скрытое беспокойство! Она просто ждала меня, и каждый день готовила еду, которую я любила. Они оба с папой знали, какие бои идут за Новгород, и, конечно, очень волновались. Мне же оставалось надеяться, что радость увидеть дочь живой и здоровой переборет отцовскую обиду за мой безобразный демарш перед отъездом.
Я шла пешком и все перебирала в мыслях детали новгородской недели. Наш двор опустел, не играли там дети, из окон не слышалась, как бывало, музыка, не перекрикивались соседки. В квартире ничего не изменилось. Тот же любимый папин порядок. Все предметы и мебель – на своих обычных местах. В кухне на плите – еще теплое мамино жаркое. Я бросила на пол свой рюкзак и поняла, что очень голодна. Мы не ели горячей пищи с тех пор, как солдаты увезли полевую кухню. Я сняла с плиты чугунок, который по какой-то старинной традиции назывался у нас гусятницей, села к обеденному столу и начала есть, не торопясь и наслаждаясь вкусной едой.
Неужели я снова дома? Да. Постукивает метроном, ему отвечают наши часы. Скоро я увижу своих родителей…
Но вот метроном замолчал. По радио объявили воздушную тревогу. Вой сирены, свистящие звуки и скрежет самолетов в небе, ответные выхлопы зениток странным образом отозвались во мне и дали, наконец, выход напряжению прошедших дней. Слезы вдруг хлынули из глаз. Но я продолжала есть, не чувствуя никакого страха и не думая о том, что можно спуститься в подвал, который служил жителям нашего подъезда импровизированным бомбоубежищем.
На следующее утро, 19 августа, Москва объявила, что Новгород взят немцами.
* * *
Эвакуация из Ленинграда части важных заводов и учреждений продолжалась. В этот широкий организованный поток некоторое время вливались мелкие ручейки стихийных отъездов ленинградцев. Какие-то пассажирские поезда еще отправлялись в сторону Москвы и далее вглубь России. Движение шло через крупный железнодорожный узел – станцию Мга. Но именно эту железную дорогу старались захватить немцы. Так они стремились окончательно отрезать Ленинград от связи с остальной страной.
25 августа вражеские войска взяли станцию Любань, а 29-го Тосно – их хорошо знал каждый ленинградец, кто уезжал в Москву или возвращался в Ленинград. Несколько дней бои шли за Мгу, и 30 августа немцы станцию взяли. В одном из последних поездов, попавших под прицельную бомбардировку в этом районе, погибли наши родные: папина сестра тетя Аня Берман, ее дочь Женя и двое маленьких детей Жени.
Учреждение, где работал папа, не имело оборонного значения и не подлежало эвакуации. Люди ходили на службу потому, что никаких других распоряжений не поступало, но делать фактически уже было нечего. Стоматологическая поликлиника еще продолжала функционировать, и мама включилась в систему круглосуточных дежурств. Кроме стоматологического лечения, врачи были обязаны оказывать ленинградцам любую скорую медицинскую помощь.
На наших глазах Ленинград становился прифронтовым городом. В дальних районах строили баррикады. Кое-где появились вбитые в асфальт рельсы. Это значило, что готовились к уличным боям. Оснований для такой подготовки было достаточно. Немцы приближались к окрестностям с каждым днем, и, наконец, укрепились в Пулкове. Отсюда, с Пулковских высот, Ленинград просматривался как на ладони. Отсюда немецкие артиллерийские батареи могли обстреливать город тяжелыми снарядами.
Четвертое сентября стало предвестием таких систематических обстрелов. В этот день над Ленинградом пролетел первый снаряд, сразу еще не отмеченный ни прессой, ни радио. Видимо, просто не решались объявить, что начались обстрелы. Между тем, снаряд сразу попал в цель: в толпу людей на трамвайной остановке.
Дурные вести разносятся быстро, и мы сразу узнали, что наш сосед с третьего этажа – молодой инженер, оказался среди жертв. Его срочно доставили в госпиталь. Вернулся он не скоро, на костылях, ему пришлось ампутировать ногу.
Восьмого сентября начались массированные воздушные налеты. В этот день, как потом подсчитали, на город было сброшено шесть с половиной тысяч зажигательных бомб. Вспыхнул пожар на складах имени А.Е. Бадаева. Эти старенькие деревянные постройки, возведенные еще в 1914 году купцом первой гильдии Сергеем Ивановичем Растеряевым, находились на границах Киевской и Черниговской улиц, недалеко от Воскресенского Новодевичьего монастыря.
В годы советской власти их назвали Бадаевскими складами по имени старого большевика Алексея Егоровича Бадаева, одного из первых наркомов пищевой промышленности РСФСР. 3 тысячи тонн муки и 2,5 тысячи тонн сахара, что хранились там, не могли обеспечить Ленинград надолго. Но ленинградцы, ошеломленные вестью о пожаре, сочли, что погиб весь продовольственный запас города на несколько лет.
Фантастическое зрелище, которое люди видели отовсюду, особенно способствовало страху. Высоко в небе клубились плотные, черные, ярко коричневые, даже синие и желтые облака дыма. Запах сладкой гари проникал в отдаленные районы – точно какой-то гигант варил на огне огромные леденцы.
Мы с папой как раз дежурили на крыше и сразу увидели эту небывалую картину. Кроме горящей муки и плавящегося сахара, тлела мешковина, пылали деревянные стены складов и тара. От них шел обычный серый дым с желтыми языками пламени.
Но не с одним этим грандиозным пожаром боролись люди в те страшные сутки. Теперь ночью кроме зажигалок на Ленинград падали фугасные бомбы, рушились жилые дома, появились первые массовые жертвы бомбардировок, первые завалы под разбитыми домами, откуда надо было спасать людей. Никакой техники спасения в те годы еще не знали. В ответ на плач и стоны, крики о помощи, к завалам бросались соседи, делали, что могли.
Нам стало ясно, что мы никуда не уедем. Впрочем, проблема отъезда в доме и раньше не обсуждалась. Никто не сомневался, что город не сдадут. И мы, как многие ленинградцы, говорили: что будет с Ленинградом – то и с нами. Считалось, что Оленька в безопасности. В Доме архитектора периодически давали сведения об интернате. Общие сведения казались утешительными, но, как потом выяснилось, мы понятия не имели, что с детьми происходило на самом деле.
Многие родственники решили забрать своих малышей из Интерната архитекторов и увезти подальше в тыловые районы страны. Они приезжали оттуда и забирали детей под свою личную ответственность. В один недобрый для нашей Оленьки день забрали Риту, которая опекала девочку.
За Оленькой никто не приехал. И с этих пор начался долгий путь скитаний восьмилетней девочки. Как будто бы в коллективе, а на самом деле в том особом внутреннем одиночестве, которое неизбежно для так называемых трудных детей. Эта маленькая героиня была еще слаба после нескольких операций. Она плохо говорила, стеснялась своего внешнего вида, часто готова была заплакать. О ней чуть позже еще последует отдельный рассказ.
Наши представления об истинном положении Ленинграда тоже были весьма приблизительными. Мало кто из нас мог тогда себе представить, что начнется долгая, небывалая осада, чреватая всеми страшными последствиями оторванности огромного многонаселенного города – как малого островка – от всей страны.
Ленинградцы, как островитяне, уже называли ее «Большой землей». Между тем, окружение все продолжалось. Отчаянные бои шли на всех участках фронта. После того, как Октябрьская железная дорога была перекрыта, через станцию Мга немцы двинулись на берег Ладожского озера и вышли к устью Невы. Там, на левом берегу стоял город Шлиссельбург со старинной крепостью, когда-то прозванный «Ключ-городом». Он действительно, как ключ, открывал путь к Ленинграду.
В ходе неудачной попытки отстоять Мгу советские войска потеряли слишком много бойцов и вооружения. И защита Шлиссельбурга, которая требовала новых мощных подкреплений, оказалась слишком трудной, почти невозможной. А немцы наступали свежими силами, бомбили и обстреливали город.
Шлиссельбург пылал так, что, как рассказывали потом жители, им казалось, будто и Нева тоже горит. 8 сентября после тяжелейших боев Шлиссельбург пал.
Пожар на Бадаевских складах, нескончаемая бомбардировка города, падение Шлиссельбурга, – все происходило в один и тот же день. С юга и с запада немцы еще раньше подошли к Ленинграду. Теперь кольцо вокруг него сомкнулось. Связь с внешним миром прервалась. Началась блокада.
Единственное, что удалось советским частям, это оставить за собой кусочек правого берега Невы. Впоследствии это позволило организовать для ленинградцев ледяную трассу по Ладожскому озеру. Крохотный и очень опасный путь по льду сохранил жизнь многим людям, истощенным голодом. Но до того прошло еще много тяжелых дней, недель и месяцев.
* * *
В начале сентября мы еще не знали, что 19 августа, одновременно с боями у Новгорода, происходило большое танковое сражение за Гатчину – один из красивейших ленинградских пригородов. Этот старинный русский городок – когда-то бывший сельцом Хотчино – тоже принадлежал к Новгородским землям. За него русские успешно сражались со шведами в 1702 году и присоединили как пригород к новой столице Петра. Здесь построили мызу – загородную усадьбу, которая переходила с годами к разным владельцам, пока Екатерина Вторая не подарила ее своему наследнику Павлу Первому.
Знаменитые архитекторы – Ринальди, Бренна и Захаров – один за другим проектировали и строили Гатчинский дворец и парк. Это была жемчужина среди дворцово-парковых ансамблей Ленинграда с богатейшим художественным собранием.
Гатчина много перевидала в годы революции, гражданской войны и советской власти. Существует легенда, что там прятался и оттуда бежал Керенский, там солдаты, преданные Советам, дрались с белой гвардией.
Гатчину дважды переименовывали: то в город Троцк, то в Красногвардейск, но никто из старожилов не считался с новыми названиями, для ленинградцев город всегда оставался Гатчиной.
Три с половиной недели августа 1941-го в районе Гатчины шли жестокие бои, в которых участвовали две дивизии народного ополчения. Немцы обходили город с трех сторон, чтобы выйти на шоссе, ведущее прямо на Ленинград. Отряды ополченцев, сильно поредевшие с начала войны, измотанные в боях и плохо вооруженные, старались задержать хорошо оснащенные немецкие части. Они пытались укрепиться в других замечательных пригородах с дворцами и парками – в Павловске и Пушкине. Но немцы теснили их отовсюду. 13 сентября шел особенно тяжкий бой за Гатчину. И в этом бою был ранен, а затем пропал без вести Надин муж.
Оленька хранит три коротких письма отца с фронта. В каждом он беспокоится о семье, о маленькой дочке. Два из них написаны на простых почтовых открытках старого советского образца. На лицевой части каждой стоят незабываемые знаки времени.
Вот треугольный штамп: «Красноармейское. Бесплатно». Рядом – печать: «Просмотрено цензурой». Обратный адрес гласит: «Действующая армия. Полевая почтовая станция 473. Почтовый ящик 15. Векслеру И. Б.»
Последнее письмо от 6 сентября, как и открытки, написано карандашом, явно наспех. Два листка, вырванные их блокнота и сложенные пополам, не были отправлены по почте. Очевидно, Исаак рассчитывал передать их с кем-нибудь из отпускников, но не успел, и они попали к нам уже тогда, когда Гатчинская драма закончилась. Вот, что он писал, еще не зная о том, что его ждет:
«Родная моя Надюшенька!
Мне вчера Парамонов сообщил через одного бойца, что ты не уехала.
Я сейчас нахожусь в отрыве от батальона на особом задании. Жив и здоров. Меня крайне удивило и обеспокоило, почему ты не уехала. Сведений от тебя нет. Прошу немедленно написать. Дорогие мамаша и папаша! Может быть, я ошибся, и Наденька с Эллочкой уехали. Прошу мне сообщить. Самочувствие хорошее, выполняю сейчас серьезное задание. Может быть, после его выполнения удастся получить на 1–2 дня отпуск. Пишите. Целую крепко. Исаак».
Письма с фронта, написанные почти семьдесят лет назад, через три месяца после начала войны… Кто сегодня помнит и хранит такие? Люди XXI века – это ведь люди Интернета и электронной почты. Они настолько отвыкли от переписки на бумаге, что им подчас не понять ценности старых полуистлевших посланий. Между тем, в сохранившихся ветхих листках живет история, и можно подчас прочесть много такого, чего не найдешь в официальной исторической литературе.
Теперь, когда я значительно больше, чем когда-либо, знаю о моем городе и ленинградском фронте в сентябре 41-го года, я легко могу читать эти короткие записки и между строк. Почти за каждой из них можно представить себе положение фронтовиков и горожан в это время.
Здесь видно, насколько близко к городу находится фронт, если командиры (а упомянутый Парамонов, скорее всего, командир или комиссар) бывают в Ленинграде и поддерживают связь с семьями своих фронтовых товарищей. От города Гатчины до Ленинграда 46 километров. Фронт – еще ближе. Автомобиль покроет это расстояние меньше, чем за час. Мотоцикл доедет быстрее. Но 6 сентября еще действует железнодорожное сообщение. Солдатский отпуск на 1–2 дня, чтобы навестить семью – вполне достижимая цель.
О каком особом задании командира саперной роты в отрыве от всего добровольческого батальона идет речь в письме? Размышляя об этом, я вспоминаю, чем занимались солдаты-саперы на подступах к Новгороду и думаю, что, скорее всего, рота, которой командовал Исаак, минировала подходы к городу Гатчине, к ее уникальному дворцу и парку.
С 6 сентября, когда было написано письмо, до дня большого боя 13 сентября прошла неделя. Да видно такая горячая, что об отпуске уже не могло быть и речи. Эти записки лежали, дожидаясь своего часа, в мешке с личными вещами.
Фронтовики явно знали о положении в Ленинграде и хотели, чтобы их жены эвакуировались. А жены, скорее всего, не хотели писать на фронт правду о том, что Ленинград уже окружен, началась блокада, и всякая эвакуация прекратилась.
Я не помню, какого числа в сентябре это было: молоденький боец той самой роты, которой Исаак командовал, пришел к нам домой, робкий и растерянный. Принес заплечный мешок Исаака и кирзовые сапоги. Он, смущаясь, успокаивал Надю, уверяя, что видел командира, раненного в ногу, уже на носилках для отправки в госпиталь, и тот попросил взять его вещи. Только вот потом все накрыл ураганный огонь немцев.
Мы не стали спрашивать солдатика, как он сам уцелел. Предложили ему отдохнуть, но он боялся, что его сочтут дезертиром, и, наверное, избегал дальнейших расспросов. Торопился в военкомат и ушел, все такой же смущенный, каким к нам явился. Может быть, он и сам не верил в спасение своего командира и не хотел огорчать его семью.
Пришел день, когда остатки советских воинских частей под напором немцев покинули не только Гатчину, но и Павловск, и Пушкин. Железная дорога стала, и жители этих городов, спасаясь от оккупации, потянулись пешком в Ленинград.
В Пушкине, еще с тех времен, когда он назывался Детским селом, жила семья маминой младшей сестры Цивы. (Тогда и вокзал недолгое время стал называться Детскосельским). Цивин пожилой муж и семнадцатилетний сын, школьник десятого класса, вместе в один день записались в добровольческий отряд и оба воевали в ополчении. Оба погибли – чуть ли не в первые недели боев, как сотни других необстрелянных, необученных добровольцев.
Пока пригородные поезда еще шли, Цива приехала к нам, чтобы не оставаться одной в прифронтовом городе. Но ей, квалифицированной модистке, не сиделось в Ленинграде без работы. Она вернулась домой за своей специальной швейной машинкой как раз в тот момент, когда железнодорожное сообщение прекратилось, а здоровое население Пушкина с узелками и чемоданами уходило в Ленинград.
Цива никогда не отличалась хорошим здоровьем, у нее был порок сердца. От постоянного сиденья за швейной машинкой отекали и слабели ноги. Естественно, что пешком, под бомбами и снарядами, она уйти не могла и осталась в Пушкине. Сначала мы долго ждали ее, потом перестали надеяться, что она до нас доберется. Много позже узнали, что вместе с другими евреями ее расстреляли немцы в подвале родного дома.
Так постепенно, понемногу война отнимала у нас родных.
* * *
В Иерусалиме существует Объединение людей, переживших блокаду Ленинграда. Я тоже вхожу в эту группу очень пожилых моих земляков. Иногда, встречаясь с ними на каком-нибудь собрании, смотрю с симпатией на элегантно одетых стариков и старушек. Сквозь черты постаревших лиц и естественную сутулость видятся мне бывшие мальчики и девочки, которым в блокадные месяцы было – кому пять или семь, а кому, как и мне, – неполных семнадцать лет. И что-то очень близкое, типично ленинградское есть в этих фигурах и лицах. Каждый из них – ненаписанная книга, отдельная, уникальная история, которую знают, может быть, только их дети и внуки.
История моих родителей и моя рядом с ними, скорее всего, тоже по-своему уникальна. Но ее не понять, если не узнать о том общем, что пережили все. Немного осталось уже свидетелей происходившего, и все же, в памятные дни снятия Блокады, каждый год, всюду, где еще остались «блокадники», появляются их новые воспоминания, добавляющие к общей картине несколько выразительных мазков.
Не сразу появились книги о блокаде. Трудно было осмыслить и прочувствовать вместе с живыми еще участниками событий такое небывалое и неизученное историей явление, как сопротивление огромного голодающего города сильному врагу.
Американский журналист Гаррисон Солсбери приехал в Советский союз в 1944 году, и только в 1969 году выпустил в Нью-Йорке книгу «900 дней. Блокада Ленинграда». На русском языке, в Нью-Йорке она вышла в 1973-м. В СССР много позже.
«Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина вышла только в 1982 году и потрясла читателей силой документа. Писатели собрали свидетельства очевидцев, дневники и рассказы тех, кто жил в блокадном Ленинграде. Есть еще одна небольшая, но замечательная повесть: «Блок ада». Ее написал Михаил Кураев, ленинградский киносценарист и документалист, переживший самую трудную часть блокады четырехлетним ребенком. Он хорошо запомнил, как жила в это время на Васильевском острове его семья. Как умерли от голода его новорожденный братик и бабушка, и не было возможности их по-людски похоронить.
О других книгах я не знаю. Признаться, собственных переживаний тех дней и месяцев мне и без литературы хватило на многие годы вперед.
Я вполне допускаю, что у зорких партийных органов, ведавших советской печатью и курирующих издательства, были свои причины не спешить с изданием откровенных, подчас пугающих книг о бедствии, свалившемся на город и на его жителей. Никто не заинтересован был «наверху» в том, чтобы читатель задавал себе естественный и привычный для России вопрос: «Кто виноват?».
Опубликованы страшные цифры о количестве горожан, умерших голодной смертью. Еще до сих пор спорят о том, было ли их один или два миллиона. Подсчеты вести трудно хотя бы потому, что после того, как немцы оккупировали Прибалтику, а затем заняли многие ленинградские пригороды, население города увеличилось за счет беженцев оттуда.
Спешно созданный эвакуационный пункт брал на учет приехавших и пришедших пешком. Но всех обеспечить жильем и накормить не всегда удавалось. Они тоже пополнили голодную статистику и умирали подчас раньше коренных жителей.
Один миллион восемьсот тысяч умерших от голода – эта цифра недавно была озвучена российским телевидением. И каждый выживший может добавить к общему горю и общей боли ленинградцев личную боль.
Взявшись писать о родителях, я пытаюсь более отстраненно, чем почти семьдесят лет назад, когда жила рядом с ними, понять, как и что они переживали в это страшное время. Для этого нужно вспомнить все, что происходило не только с нами, но и с самим городом и его людьми в трудный час войны.
И все же я не считаю себя вправе писать обо всех бедствиях Ленинграда в блокаде. Если не считать время, прошедшее с 22 июня, то из 900 блокадных дней на долю нашей семьи выпало чуть больше ста пятидесяти: с 8 сентября 1941 по 6 февраля 1942. К этому вполне можно добавить и несколько месяцев дистрофии, пережитой уже на «Большой земле».
Я не берусь рассказывать ни о том, как в городе ели кошек и собак, ни о случаях людоедства или о других страшных случаях лишения рассудка от голодания, которых я не видела. Уже в эвакуации, из уральских газет и радио мы узнавали о мужестве жителей, истощенных и слабых, кто летом 1942 года из последних сил сажал семена зелени и овощей на узких полосках земли ленинградских бульваров и городских садиков. И о тех, кто под обстрелами убирал город от нечистот и приводил в порядок улицы и дворы. К этому времени самый критический момент голода прошел. Но я видела и помню многие страшные картины блокады за период с ее начала до февраля 1942 года.
Теперь уже медициной, а не только историей и свидетельствами очевидцев, доказано, что именно период с сентября 1941-го по конец января и весь февраль 1942-го стал для ленинградцев самой трудной частью всего огромного блокадного срока.
Наибольшее число смертей официально зарегистрировано в январе 1942 года. К этому времени люди еще не приспособились к постепенно пожирающему их голоду. Психологический шок и полное отсутствие пищи, кроме жалкой нормы хлеба, лишали их всякого физического и морального сопротивления. Да и хлеб этот был на 80 процентов – искусственный: к ничтожному количеству муки добавляли древесные опилки, пищевую целлюлозу, солому, крахмал и подсолнечный жмых.
Кроме тяжких мук голода, многие горожане испытывали острое беспокойство о своих родных. О тех, кто воевал на близких и дальних фронтах. Особенно о тех, кто с первых дней войны ушел в народное ополчение. Многие из ополченцев, так же как Надин муж, пропали без вести. Или погибли. Они одни из первых стали пушечным мясом войны, но именно они задержали немецкие части на подступах к Ленинграду.
Почтальоны все несли и несли бесконечные «похоронки» в квартиры ленинградцев. Почта на удивление работала не хуже, а может быть, даже лучше, чем в мирное время. О военных почтальонах и о почте эпохи войны можно было бы написать отдельную книгу.
Убитые горем семьи теряли не только физические, но и душевные силы, а главное, веру в благополучный исход свалившегося на них бедствия.
Так в жизнь города вошло самое трагическое явление блокады – «алиментарная дистрофия» от латинского слова alumentum – пища. Это была еще неизученная прежде болезнь людей, измученных голодом, тревогой и ожиданием. Страшный невиданный физический и психологический недуг делал их быстрой и легкой добычей смерти.
Мы не знали научного определения дистрофии. Мы только видели вокруг на улицах донельзя исхудавших людей, с огромными печальными глазами, с сухими, обтянутыми кожей лицами. По городу, сплошь засыпанному снегом, плелись слабой походкой мужчины и женщины, дети и подростки. Это были совершенно изможденные существа без возраста, без социальной принадлежности. Странное племя людских подобий, равных в своей немощи, в своем отчаянии.
Зима 1941–42 годов была особенно жестокой. Выходя на улицу, женщины натягивали на шапки шерстяные платки, которыми крепко-накрепко перехватывали поясницу, чтобы ледяной ветер не пробирал исхудавшее тело до костей. Мужчины особенно страдали от холода. Ослабевшие, они шли по заснеженным улицам в легко продуваемых пальто, шаркая старыми валенками или холодными ботинками: ведь теплую обувь с меховой подкладкой до войны еще не производили.
Так и жались все друг к другу ранним темным утром в очередях около булочных. Ждали, когда привезут долгожданные кирпичики склизкого хлеба. Медицинская статистика свидетельствует, что в феврале 1942 года чаще и больше, чем остальные жители, умирали мужчины.
Норма хлеба рабочих составляла 250 граммов. Служащие, иждивенцы и дети получали всего 125 – по мирным временам это был, в сущности, только ломоть, кусок хлеба. Кроме него никакой еды не было. И эту-то жалкую порцию обычно съедали сразу, в утренние часы.
Семьи посылали в очереди за хлебом своих мужчин, потому что по неписанным законам блокадной жизни тому, кто приносил домой хлеб, разрешалось съесть, кроме своей порции, маленький довесок. Часть буханки продавцы не могли точно отрезать, и крошечные довески всегда образовывались при раздаче.
Впереди оставался длинный зимний день. Днем в замерзших руках люди-тени судорожно сжимали чайник с водой из проруби, а то и веревку от саночек, на которых завернутое в простыню тело умершего родственника надо было засветло довезти до кладбища. О традиционных похоронах нечего было и думать. Гробик для погибшего младенца, а тем более для взрослого человека, стал роскошью.
Трупы начали складывать в подъездах домов и на грузовых машинах везли, чтобы хоронить в братских могилах.
Эта уличная картина была лишь внешней стороной домашнего существования ленинградцев. В квартирах не было ни света, ни тепла. Не работали водопровод и канализация. Лишь счастливые обладатели маленьких железных печурок – нового поколения «буржуек», спасавших людей от холода в годы гражданской войны, – могли растопить снег или вскипятить воду, набранную в прорубях Невы и Фонтанки.
Чтобы согреться, жгли бумагу, старые газеты, доходило и до того, что в печки летела наспех разбитая мебель и даже книги. Это была уже последняя степень отчаяния. Особенно для людей, годами собиравших библиотеки – для тех, кто знал, что такое редкая книга, купленная за большие деньги у знаменитых на всю страну ленинградских букинистов.
Квартирный холод парализовал мозг и волю к жизни. Под кучей старых одеял, пальто, всей ветоши, какая была в доме, находили порой целые семьи навеки заснувших людей, уставших бороться с голодом и холодом.
Советская медицина изучила дистрофию как раз в это время, и первые исследования о болезни опубликованы именно ленинградскими врачами в 1947 году. Они дали материал для энциклопедической дефиниции, которая главными проявлениями алиментарной дистрофии называет безразличие к окружающему, апатию и другие психологические состояния, вплоть до галлюцинаций и острого психоза, развивающихся в результате голодания и потери до 50 процентов общей массы тела.
Как же случилось, что город оказался неподготовленным к военному бедствию такого рода? Ответ на этот вопрос, к сожалению, весьма прост. Ленинградцы, как ни горько это признать, оказались заложниками плохой организации обороны и защиты населения от жестоких условий осады.
Власти растерялись перед невиданными когда-либо трудностями. Трудно было, конечно, предвидеть размеры несчастья, и тем более, избежать его. Но страх перед лавиной бед привел все городское хозяйство в полный упадок и для борьбы с непривычными трудностями не находилось средств.
Кроме немцев, безжалостно обстреливающих Ленинград, особенно злым врагом людей стала ранняя и небывало суровая зима. Снег валил на пустые, безмолвные улицы, на тротуары и на мостовые, по которым давно не ходил транспорт. Мороз сковывал все живое. Температура воздуха опускалась временами до 38-40 градусов, а дома давно уже не отапливались.
8 декабря 1941 года в городе полностью отключилось электричество. Улицы не освещались. Тротуары не очищались от снега и постепенно превращались в бесконечные сугробы. Люди, шатаясь, шагали по тропинкам, протоптанным по середине мостовых.
Зима в Ленинграде и в мирные дни всегда была самым темным временем года. Светало обычно лишь к девяти-десяти утра, а в четыре часа дня наступал вечер. Теперь же, когда все окна в домах завешивались в целях светомаскировки, город рано погружался в абсолютную темноту. Пешеходам, способным передвигаться, выдали в домоуправлениях маленькие значки – «светлячки» в виде крошечных розочек, покрытых фосфоресцирующей краской. Светящиеся точки мелькали в темноте, помогали не столкнуться людям, идущим навстречу друг другу. Такую розочку я сохранила на память.
Грустной была картина зимних улиц. Обесточенные трамваи и троллейбусы остановились там, где их застало выключение городского рубильника электросети. Снег засыпал их, превращая в странные снежные скульптуры. Однажды замолчало радио. Пропал привычный для всех круглосуточный стук метронома. Вдруг воцарившееся безмолвие стало жутким. И наш папа грустно сказал: «Нет, Сталин не знает, что с нами происходит…» Удивительно, что он, совсем не обласканный властью, считал диктатора, загубившего тысячи людей в тюрьмах и лагерях, единственным спасителем народа. И так думали многие. Так говорили люди в очередях за хлебом.
Сталин, скорее всего, понимал, что должно было происходить в городе, осажденном со всех сторон. Он не любил Ленинград, и еще с начала тридцатых годов у него были свои счеты с руководителями ленинградской партийной организации. В 1934 году партийный руководитель Киров – фактический хозяин города – был убит по его приказу. Еще раньше систематически арестовывались и расстреливались или высылались лучшие представители интеллигенции.
Но в августе 1941-го Сталин обратил внимание на угрожающее положение города. Именно тогда он поставил Жданова на место Ворошилова, не справившегося с руководством войсками Ленинградского фронта.
Анастас Иванович Микоян, тогдашний председатель Совета министров СССР, держал наготове для Ленинграда несколько эшелонов с продуктами питания. Но товарищ Жданов из страха перед Сталиным, только что доверившим ему оборону города, сообщил ему, что продовольствия в Ленинграде хватает с избытком. Он отказался принимать продуктовые эшелоны. И Сталин дал согласие на это изуверское решение.
Жданов отказался и от подкрепления ленинградского военного гарнизона армейскими частями, уверяя, что город сам справится с обороной. Он из трусости скрывал от Сталина истинное положение дел, хотя прекрасно знал, что продуктовых ресурсов уже нет, а снаряды и вооружение, изготовленное на ленинградских заводах, отправляются на другие направления фронтов.
Партийное руководство Ленинграда от голода не страдало. В архивах нашлись документы со списками продуктов, которые привозили в Смольный для партийного и советского начальства. Там работала специальная правительственная столовая. Кроме обычного набора съестного, здесь не переводились деликатесы: черная и красная икра, балыки, ветчина и прочая рыбная и мясная гастрономия. Специально выпекали хлеб, особые кондитерские изделия, например пирожные «буше» по французскому рецепту. Тучный, рыхлый товарищ Жданов не страдал от недоедания.
В Смольный доставлялась специальными самолетами не только хорошая калорийная пища. Там имелись электричество, вода, отопление, средства связи. Жданов мог находиться в Смольном, как в цитадели, сколько угодно дней, месяцев и даже лет. У него был свой повар, своя маникюрша. В черные для населения города дни этот барственный коммунист делал маникюр. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Что-то в этом роде имел когда-то Ленин. Этот «самый человечный человек» и верный большевик в апреле 1917 года приехал в охваченную революцией Россию с личным поваром.
Партийная верхушка не знала ничего похожего на то, что переживали рядовые граждане на соседних улицах. Руководители считали, что такие привилегии им положены.
Так трагически сложились внутренние обстоятельства жизни осажденного города. Внешние же условия окружения имели в своей основе дьявольски антигуманный расчет немецких специалистов.
Сильно разочарованный и разгневанный потерями своей армии при отчаянном сопротивлении советских войск на подступах к Ленинграду, который не удалось захватить за три недели, Гитлер готов был отдать приказ стереть непокорный город с лица земли.
Однако немецкие генералы убедили его отказаться от этого плана. Они посчитали, что не стоит тратить огромные людские резервы и огневые средства авиации на штурм Ленинграда. Они были убеждены, что в плотном окружении под периодическими артиллерийскими обстрелами и под властью голода город вымрет сам. Циничный расчет оказался верным.
Дистрофия лечится не медикаментами, а усиленным питанием. Увы, полноценное и регулярное снабжение города продовольствием извне с момента окружения стало практически невозможным. После падения Шлиссельбурга хорошо развитая навигация по Ладожскому озеру прекратилась. Оставались воздушные пути, но и у военной, и у гражданской авиации были, очевидно, более важные задачи, чем систематическая перевозка продовольствия в блокадный город.
В двадцатых числах декабря 1941 года автотранспортные батальоны, участвовавшие в перевозках для Ленинграда, почему-то перевели в Москву, в ведение Верховного главнокомандующего, то есть самого Сталина.
Транспортные самолеты «Дуглас», которые тоже перевозили продукты, отправили на подмосковные авиабазы. «Дугласы нужны на других фронтах!» – сказано было в ответ на просьбу оставить самолеты для снабжения ленинградцев. Так по чьей-то злой воле советские властные органы фактически играли на руку жестокому замыслу немцев.
И город начал, как мог, спасаться сам. Кому-то помогало общественное питание. Городские организации начали создавать стационары для дистрофиков. В них направляли оставшихся в Ленинграде работников культуры, рабочих оборонных заводов, несовершеннолетних ребят, ставших за станки и быстро потерявших работоспособность. Медицинские работники кое-как кормились в больницах и госпиталях.
Были, конечно, небольшие группы населения, сумевшие приспособиться к добыванию продуктов нелегальным путем, за большие деньги, пользуясь услугами нечестных продавцов магазинов или спекулянтов. Возобновились уличные рынки, хорошо известные ленинградцам по временам военного коммунизма и гражданской войны. Эти рынки очень скоро окрестили старым названием: «толкучки». На них люди старались обменять на продукты подержанные или новые вещи. Или за огромные деньги купить кусок хлеба, горстку крупы, стакан хлопкового масла, жир для консервной банки-коптилки, заменяющей керосиновую лампу или свечу.
Папа особенно тяжело переносил голод. Покупку хлеба, как и в других семьях, мы поручали ему. В пять часов утра он уже стоял на морозе в очереди у закрытой булочной, но мог съесть по дороге домой маленький довесок, который всегда образовывался при взвешивании и разрезании продавцами кирпичиков хлеба. Обманчивая прибавка на самом деле уменьшала общую порцию, но в семьях сознательно шли на невинный обман. Папа страдал ужасно. Не только от постоянного желания есть. Он мучился из-за того, что эти страдания унижали его, как он думал, в наших глазах.
В нашей семье никогда не делали запасов. В старые добрые времена покупали только свежие мясо и рыбу, гастрономию и нужную бакалею. Немного разных круп, муку для выпечки или лапши, сахар, соль, – все это держали на нескольких полках кухонных шкафчиков. Даже картошку и другие овощи приносили в дом по мере надобности. Хлеб ели свежий, а черствый отдавали молочнице для коровы. И уж, конечно, не сушили сухарей: их можно было купить – простые, лимонные, ванильные и с изюмом.
Продовольственные карточки в то время, когда на них действительно можно было получить набор продуктов, и вовсе не способствовали сохранению чего-либо на черный день. Так что к моменту исчезновения нормированной провизии из продажи в магазине наша семья оказалась совершенно не готова. В октябре месяце закончились в домашнем рационе каши, исчезло молоко, не стало сахара, постепенно истощились минимальные количества картофеля и овощей, мясо и рыба остались в воспоминаниях.
Мои августовские приключения под Новгородом стали стираться из сознания под напором новых сентябрьских событий. Университет не напоминал мне ни о занятиях, ни о каких-либо собраниях студентов. И я тоже не спешила напоминать о себе, уверенная в том, что преподаватели и студенты не сидят в аудиториях. Так оно и было: кто-то воевал в отрядах, защищавших Ленинград, физики и химики находились в эвакуации, где работали на оборону. О первокурсниках как будто забыли.
Я осталась дома и решила, что буду, чем смогу, скрашивать родителям и сестре полуголодное существование. Пока папа с мамой и Надя уходили в свои учреждения, я старалась извлечь из шкафов остатки домашнего сырья для приготовления хоть какой-нибудь еды.
Я достала из кладовки лестницу-стремянку и залезла в ящик на верху буфета, где хранились, обычно, елочные игрушки. В 1936 году разрешено было устраивать елки.
Рождественскую елку в России запрещали дважды. Первый раз в Рождество 1914 года, когда шла война с Германией. Второй – в пылу всех революционных преобразований и борьбы с «опиумом для народа» – религией.
В 1914 году Священный Синод запретил ее «как вражескую немецкую затею, чуждую православному народу». Теперь, в безбожной советской стране возвращение к праздничной елке вовсе не означало, что народу возвращен праздник Рождества Христова.
Елку разрешалось ставить и украшать 31 декабря – на Новый год.
У нас дома к новогодней елке загодя готовили игрушки. Прежде всего, покупались грецкие орехи, разные конфеты, маленькие шоколадки. Все это заворачивалось в тонкую серебряную и золотую фольгу и на нитках подвешивалось к зеленым, еще пахнувшим смолой веткам. Из цветной бумаги и картона вырезались разные фигурки – Надя создавала и раскрашивала их с истинно художественным мастерством. Клеились из цветной бумаги кольца для гирлянд и придумывались другие самодельные украшения. Все это делалось сообща вечерами, за обеденным столом, под ярким светом той самой люстры, которая так уютно объединяла нас в будничные вечера и в праздники.
Найденное мной в буфете, конечно же, не могло насытить наши опустевшие желудки, но что-то я все же наскребла, чтобы можно было почувствовать во рту вкус – пусть не еды, но воспоминания о веселом празднике.
Следующим изобретением был суп из хлеба, когда он еще что-то весил, и семья получала в булочной три четверти буханки-кирпичика. Небольшую порцию, с согласия домашних, я нарезала кубиками, опускала в горячую соленую воду, заправленную обрывками лаврового листа. Его я нашла вместе с душистым перцем в одном из нижних ящиков буфета.
Этому вареву было далеко до деревенской мурцовки – хлеб был не тот, и давно не было уже ни кислого молока, ни лука, ни тем более огурца. Даже для «тюри» – супа бедняков из горячей воды с мукой или хлебом, но хлебом настоящим, полноценным – не доставало ингредиентов, но кипяток хоть ненадолго согревал нас. Однако вскоре тратить даже часть порции нашего суррогатного хлеба на суп стало кощунством.
Свои дальнейшие поиски я направила в папин письменный стол. Там, я знала, должны были лежать плитки столярного клея, который готовился в те годы не из синтетических составляющих, а из настоящих костей рогатого скота. Вот что могло стать пищей!
Плитки эти, как все вещи у папы, лежали на своем месте. Темно-коричневые и полупрозрачные на просвет, они были похожи на окошки из толстого цветного стекла с выпуклым ромбовидным узором, какие встречались в старинных дачах.
Я знала, что бабушка и мама варили студень из телячьих и свиных ножек – это тоже ведь были кости – значит можно попробовать сварить студень из плиток? Первая проба удалась. Я добавила в клейкую жидкость соль и английский перец. Студень застыл очень быстро. К приходу старших в доме была еда.
Но плиток хватило ненадолго. Искать дома больше было нечего. У папы в столе оставались лишь гильзы для папирос, небольшой запас табака, и машинка для набивания гильз. Я видела, как ловко папа орудовал этой машинкой, и решила набить папиросу. Дело оказалось совсем не трудным. И я попробовала закурить. Каюсь, потом несколько раз, разумеется, тайно, повторяла эту нехитрую процедуру. Так что к студенческим годам я имела достаточный опыт, чтобы не отставать от своих сокурсников. А курили тогда почти все: студенты тоже ведь голодали, курение отчасти заменяло ощущение сытости.
В продуктовых магазинах по карточкам уже давно ничего не продавали. Однажды папа принес со службы маленькие желто-коричневые лепешки – «дуранды», так назывался в народе подсолнечный жмых. Раньше им кормили животных. Плитки можно было варить в кипятке или разогревать на сковородке, как оладьи. Вкус они имели отвратительный, но на какое-то время наполняли желудок.
Таким я помню октябрь 1941 года. Деревья уже стояли голые, пешеходов становилось все меньше. Их отпугивали обстрелы. Рабочие и служащие рано утром торопились к местам работы. Хлеб раскупали тоже с раннего утра. Детские сады – те, что не успели эвакуироваться, перешли на круглосуточный режим, дети сидели в помещениях.
Но помню я и другие, удивительные моменты этого тревожного времени. Театр музыкальной комедии, который еще оставался в городе, играл спектакли. В Филармонии ленинградский симфонический оркестр давал концерты. Основной состав оркестра Ленинградской филармонии вместе с дирижером Евгением Мравинским был еще в августе 1941 года эвакуирован в Новосибирск.
Другой великолепный дирижер Карл Ильич Элиасберг собрал для филармонии оркестр из музыкантов, оставшихся в Ленинграде. 12 октября, в воскресный день, в главном зале филармонии открылся музыкальный сезон.
Концерты продолжались, и на один из последовавших за первым Наде удалось купить билеты. Играли в тот день две симфонии Чайковского. Всегда нарядный и торжественный зал бывшего дворянского собрания Петербурга, где располагалась филармония, теперь выглядел особенно великолепным.
Меня еще до начала концерта поразило и обрадовало какое-то особенно праздничное настроение слушателей. Совсем как в мирные вечера, в фойе во время антракта прогуливались нарядно одетые женщины, в группках завсегдатаев и знатоков говорили о музыке, обсуждали игру оркестра. Такое же парадоксальное в условиях осажденного города ощущение праздника царило и в зале во время исполнения симфоний.
Первое отделение прошло спокойно. Мы прослушали четвертую симфонию. Долго не стихали аплодисменты, и долго люди не вставали с кресел, сосредоточенные, погруженные в себя. После антракта началось второе отделение. Играли шестую симфонию.
Где-то на середине исполнения, неожиданно в звуки музыки стал проникать с улицы странный шум, который постепенно нарастал. И вдруг мы осознали, что это шум обстрела! Но на сцене не видно было никакого смятения, оркестранты играли, подчиняясь только движениям дирижера.
Карл Ильич Элиасберг дирижировал в своей строгой, но глубоко эмоциональной манере. Теперь же, в необычных условиях, его эмоции особенно легко передавались и оркестру, и залу. Торжественные голоса литавр и барабанов невероятным образом сливались со звуками разрывов от падающих нарядов, усиливая общее волнение.
И когда исполнение было закончено, гром аплодисментов перекрыл все звуки. Люди кричали «браво!», шли к сцене и благодарили музыкантов.
После концерта нам с Надей нужно было как-то добраться домой. Эту хорошо знакомую и совсем не длинную дорогу мы могли бы пройти с закрытыми глазами – так часто мы ходили по ней в мирное время. Но теперь родные с детства улицы обстреливались, и требовался определенный навык, чтобы живыми добраться до дома. Возбужденные, восторженные, мы не шли, а бежали, прислушиваясь ко всем уличным звукам, не оглядываясь и не останавливаясь.
Тихий, уже холодный поздний вечер. Не помню, какого числа шел этот незабываемый концерт. Помню только, что когда мы бежали домой, снега еще не было. В совершенной темноте мы промчались мимо Публичной библиотеки и улицы Росси, вышли к Чернышеву мосту. До Пяти углов оставалось миновать только Чернышев переулок. Тут мы впервые позволили себе остановиться и перевести дыхание, чтобы понять, не слышно ли разрывов от летящих в город снарядов. Нет. Немцы, очевидно, уже отстрелялись на этот час. Мы отдышались и пошли к своему дому спокойным шагом. Теперь можно было поговорить о впечатлениях от концерта.
Меньше чем через год, в августе 1942-го, истощенный голодом, поднявшись с койки в стационаре для дистрофиков, Карл Ильич Элиасберг снова собрал оркестр. За это время голод успел унести жизни многих горожан, но цель сбора музыкантов была особенно важной. Предстояло первое исполнение «Ленинградской симфонии» Шостаковича.
Части исполнителей уже не было в живых. Они умерли от голода. На стулья в оркестре положили их инструменты, а на замену умерших вызвали музыкантов с фронта. Орудия Балтийского флота и береговой обороны города обеспечивали тишину в концертном зале. В тот день они подавили все немецкие батареи, обстреливавшие Ленинград.
Концертный зал, такой же великолепный и торжественный, как всегда, заполнился только наполовину. Многие постоянные слушатели не пришли на концерт. Ослабленные дистрофией, они не смогли добраться до филармонии.
Для нас с сестрой концерт в октябре 1941 года оказался единственным. В ноябре стояла уже суровая зима и все больше времени семья оставалась дома. Осиливать ежедневный блокадный стресс нам помогало чтение.
Мы все постоянно что-то читали, пока работало электричество. Тогда я впервые познакомилась с одной замечательной книгой: «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста.
Этот поначалу немного странный для меня роман отвлекал от мыслей о еде, об опасности. Меня завораживало любование героя историей и старинной архитектурой, удивительная искренность его рассказов о детстве, о любви маленького мальчика к матери. Солнечный облик старого доброго, провинциального юга Франции чудесным образом согревал меня в вымерзающей день ото дня квартире. Но очень скоро читать стало невозможно. Ежедневная, ежечасная борьба за выживание поглотила все свободное время. Книгу пришлось отложить до лучших времен.
* * *
Ноябрь 1941 года принес нам новые трудности быта, кроме голода и холода. Замерз сначала водопровод, потом перестала действовать канализация. Мороз сковал не только водопроводные трубы, но и каналы, и реки города. А они-то как раз и оставались единственным источником воды.
Правда, повсюду полно было снега. Счастливые обладатели печурок топили снег и пользовались талой водой. Ее небольшие порции годились скорее для умывания, чем для питья. Ленинградцы начали ходить за водой к ближайшим рекам.
Около гранитных ступенек, ведущих к воде у набережных Фонтанки, Невы и Мойки, лед раскололи таким образом, что в больших квадратных отверстиях протекала чистая речная вода. К этим прорубям с раннего утра устанавливались очереди с ведрами, чайниками, бидонами.
Вся процедура доставания воды требовала невероятной осторожности и напряжения всех сил. Люди стояли спокойно до тех пор, пока очередь не доходила до обледеневших ступеней. Спуск по ним к отверстию с водой требовал поистине акробатической ловкости.
На скользкой поверхности и старики, и молодые, или дети, посланные за водой ослабевшими родителями – едва держали равновесие. Не легче был и подъем. Тут у тех, кто шел, и у тех, кто стоял, на скользком пятачке, ожидая спуска, сдавали нервы. Многие падали вместе с бесценной ношей. Одни старались помочь, другие сердились за пролитую воду, потому что та моментально застывала и грозила превратить ступеньки в ледяную горку. Походы за водой растягивались на долгие часы.
Теперь почти вся светлая часть дня у нас с Надей уходила на добывание воды. Мы отправлялись на Фонтанку, к проруби, самой близкой к нашему дому. Обе были одеты совсем не для долгого стояния на морозе, но ничего другого не оставалось, шли, в чем могли. Холод все равно уже давно как будто жил внутри нас. Надю не грела даже меховая шубка. У меня коченели ноги в валенках. Летом их не успели подшить, и пятки остро чувствовали снег под ногами.
Мы стояли с бидоном и двумя чайниками. Ведро казалось уже не по силам. Те, кто шел с ведром, чаще всего расплескивали драгоценную воду или падали от непривычной тяжести.
Обратный путь тоже не обещал быстрого прихода домой. По набережной Фонтанки протоптанная дорожка вела к переулку, оттуда – на Загородный проспект. Тут тропинка шла среди сугробов, а впереди ждал длинный переход по двум заснеженным дворам, которые давно никто не убирал, потом – лестница на четвертый этаж в нашу квартиру.
В эти особенно темные и холодные дни мы очень сблизились с Надей. Я с первых же дней войны забыла все наши мимолетные сестринские недоразумения, споры, мою скрытую ревность, а порой и зависть. Известие о пропавшем без вести Исааке, которого мы все любили, внесло в мое отношение к старшей сестре горячую жалость.
Мы все вчетвером с мамой и папой теперь ютились в маленькой комнате при кухне. И по примеру родителей, мы с Надей спали вместе, согревая ноги, пока еще топилась плита, одним нагретым перед сном утюгом.
Ах, эти голодные сны, в которых бомбежки, бег или брожение по пустым улицам и чужим квартирам чередуются с видениями вкусной еды… Белая булка с маслом, намазанная сверху вареньем. Любимая каша с желтым масляным озерцом в тарелке. Красные яблоки на зеленой траве, которых так много, что не в чем унести… Небогатая, но сытная пища родного дома или летнее дачное изобилие.
В исторических справках о блокаде черным по белому написано: с октября 1941-го по март 1942-го нормы отпуска продуктов были ниже необходимых для выживания. Ноябрь стал особенно голодным месяцем. Вместе с тем, неумолимо приближалось еще более тяжкое время.
Рассказывая о характерных признаках алиментарной дистрофии, я не отметила среди многих из них еще одного грустного последствия новой болезни. Голод, разлагая сознание людей, вызывал иногда неожиданные, порой даже не представимые в мирное время трещины в семейных отношениях. Такая беда тоже совершенно неожиданно постигла нас, частью и так уже осиротевших после того, как вдалеке оказалась Оленька, а потом пропал без вести Исаак.
В это время случай особенно тесно столкнул нас с дружественной семьей Ниночки Напалковой, о которой я уже писала. Шура, ее замужняя сестра жила рядом с Пятью углами на Ивановской улице. После отъезда в деревню Александры Ивановны, вместе с Ниной и Колей, ее маленьким сынишкой, Шура осталась в Ленинграде. Встретившись однажды на Загородном проспекте, мы разговорились. Стоять было холодно, и я зашла к ней.
Двухэтажный флигель, где она жила, находился во дворе большого дома, в обоих зданиях исстари существовало печное отопление. Шура закрыла две из трех комнат в своей маленькой квартирке и переселилась в угловую, бывшую столовую, где стояла большая, упиравшаяся в потолок круглая железная печка-голландка.
Утром она ее истопила, и мощное железное тело еще хранило тепло. Но дрова кончались, а во дворе со вчерашнего дня лежала неизвестно кем брошенная большущая березовая колода, которую ослабевшая Шура одна никак не могла ни втащить на второй этаж, ни распилить, чтобы потом наколоть дров.
Узнав, что наша квартира давно никак не отапливается, Шура предложила нам всем пожить у нее, пока есть какое-то тепло. Если мы вместе распилим березовую колоду, дров хватит недели на две.
Это было на редкость заманчивое предложение. Но наш папа от него категорически отказался.
А мы с мамой и Надей решили принять Шурино гостеприимство, надеясь, что и он тоже потом присоединится к нам. Ведь речь шла о недолгом времени, за которое можно было хоть немного отогреться.
Но папа и помыслить не мог о том, чтобы оставить свой дом, даже закрыв квартиру на ключ. Он сердился на нас, но не препятствовал тому, что мы на время уйдем к Шуре. И мы ушли.
Так начался этот грустный эпизод нашей блокадной жизни в разлуке с папой. Мы коротали время вчетвером. Кое-как вместе с Шурой и Надей втащили драгоценное бревно на площадку лестницы и целый день, сменяя друг друга, пилили его, чтобы завтра нащипать коры и наколоть дровишек. Жильцы первого этажа уехали еще летом. Входную дверь во флигель можно было крепко-накрепко закрыть.
Так, будто запертые в маленькой крепости, стали мы обладателями неслыханного богатства. Не прибавилось только еды. Но можно было помыться теплой водой, вымыть голову – о такой роскоши у себя дома мы даже не мечтали. За водой теперь не ходили. Во дворе было сколько угодно чистого неубранного снега, мы его топили и кипятили даже для питья.
Помню, мы старались не молчать: в разговорах быстрее проходил скудный день. Надя все еще ждала известий о муже и писем из Сибири, где находились эвакуированные дети. Ни того, ни другого не было. И это беспросветное ожидание, в конце концов, подкосило ее. Отогревшись, она однажды легла в постель и перестала вставать по утрам. Никакие уговоры не могли заставить ее подняться, вылезти из кровати, приняться за какое-нибудь дело. А дело самое простое иногда растягивалось на целый день, и время бежало быстрее: шутка ли – пойти за хлебом еще до рассвета, отстоять очередь в булочной. Затопить печку, принести ведро снега со двора и растопить его, и вскипятить воду для питья. Все эти обязанности выполняли через силу мы втроем. Надя лежала, отвернувшись к стенке, не разговаривая с нами. Вставала, чтобы съесть свой кусок хлеба и снова молча ложилась на кровать, накрывшись шубкой.
Это была та самая дистрофическая депрессия, нежелание сопротивляться голоду и угасанию сил, которая косила многих ленинградцев. При мысли о страшном финале, к которому неизбежно приводили такие состояния, мама решила действовать без промедления. Она надела на себя все, что при ней было из теплой одежды, повязалась платком поверх пальто, и вышла из дома искать врача. Кое-кого из стоматологов в нашем районе она знала, но как ей удалось найти терапевта – не знаю.
Через некоторое время старенький доктор, с типичными манерами и говором потомственного петербуржца, появился вместе с мамой в Шуриной квартире. Он подивился теплу в комнате, обрадовался возможности снять пальто и попросил разрешения вымыть руки. Врачебное братство не позволило ему отказать маме в визите, хотя сам он еле держался на ногах.
Надя покорно дала себя выслушать. На немногочисленные вопросы доктора отвечала за нее мама. Все признаки депрессии и без долгой беседы с больной были налицо. Доктор вздохнул, видно было, что диагноз огорчил его самого. И что-то трогательное прозвучало в немного старомодном заключении старого медика.
«Упадок духа, – сказал он с грустной улыбкой. – К тому же сильный авитаминоз. И, как следствие всего этого, упадок сил. Медикаменты тут не нужны. Пойдите-ка вы, коллега, на рынок, постарайтесь купить дочери баночку квашеной капусты, пусть больная съест ее в течение двух-трех дней со своим хлебным пайком. Давайте посмотрим на положение дел реально: пожалуй, это все, что вы можете сделать в нынешних условиях».
Говорил он тихо, участливо, а в ответ на протянутый мамой конверт с деньгами, сказал громко и твердо: «Да нет, что Вы, какой может быть гонорар – Вы не хуже меня знаете, что врачи у врачей денег не берут! Желаю Вашей дочери поправиться».
Он надел пальто и не очень твердыми шагами пошел к двери. Шура провожала его до самого выхода со двора. Жил он не очень далеко, на Коломенской улице, и как истинный джентльмен, пожелал даме всего наилучшего и от дальнейших проводов отказался.
Мы с мамой отправились в Кузнечный переулок. Красивый, облицованный серым камнем павильон Кузнечного рынка давно закрыли. Вместо него рядом, на площади перед Владимирским собором, неровными голосами гудела толпа. Топтались, пританцовывая на истоптанном снегу, новоявленные продавцы. Бог знает, из каких закромов тащили они на обмен и продажу старые вещи, соль, спички, керосин в маленьких бутылках, лампадное и льняное масло.
Кто-то продавал кулечки с крупой, крахмалом, сладкими конфетами-подушечками. Кто-то даже прятал под полой пальто буханку хлеба, рискуя быть ограбленным или битым.
Стояли тут и бледные исхудавшие петербургские дамы с дорогими кружевами в руках, с бисерными кошелечками старинной работы и даже меховыми накидками. Ходили в толпе мужчины неопределенного возраста и неясного происхождения. Они предлагали изделия из металла, посуду, самодельные коптилки с фитилями в консервных банках.
Крепкие на вид бывалые дельцы вели виртуальную торговлю: обмены на дому. Эти охотились за дорогой старинной мебелью. Позже, когда станет совсем невмоготу, папа не выдержит и торговцы придут к нам домой, чтобы за буханку хлеба получить папины любимые башенные часы с боем. И этот многолетний страж прежней жизни нашей семьи уйдет к чужим людям.
Мы с мамой искали на рынке бывших жителей ленинградских пригородов. Те из них, что успели до наступления немецкой армии покинуть свои дома с садиками и огородами, выносили на продажу часть своих запасов картошки и солений. Тут-то мы и нашли за 800 рублей стеклянную банку, плотно набитую квашеной капустой.
Надя выполнила назначение старенького доктора и встала на ноги. Не столько от содержащихся в заветной банке витаминов, сколько из благодарности за наши с мамой труды. Недолгая отлучка из дома заканчивалась. Пора было возвращаться.
Мы все снова были у себя на Загородном проспекте и сидели дома, когда однажды днем к нам неожиданно пришел муж двоюродной сестры Зины – Шуля Левинсон. В мирное время он вместе с ней любил бывать у нас на семейных праздниках. Это был крепкий, здоровый, веселый человек, из тех, что любят компанию, хороший анекдот, семейные застолья.
Зину с их маленькой дочерью он отправил в Вологду. Сам жил на казарменном положении на Васильевском острове, в Гавани, где стояла его часть. Способный военный инженер, он давно связал свою жизнь и работу с Балтийским флотом. С самого начала войны проектировал и вводил в строй особые огневые точки для береговой обороны Ленинграда.
Шуля вошел в нашу холодную квартиру, совсем как в былые времена, широко улыбаясь, и шумно здороваясь со всеми. Рассказал о жене и дочке, расспросил нас обо всех родных. Приглядевшись хорошенько, обстановку оценил по-военному быстро. Без лишних слов объявил, что мы погибнем, если кто-нибудь из нас не начнет работать. И категорически изрек, что работать придется мне. Он устроит меня на завод, который обеспечивает нужды Балтийского флота, и мой военный паек поможет семье не умереть от голода.
Шуля был очень смущен тем, что не захватил с собой никакой еды. Сначала думал, будто мы уехали, а потом признался, что боялся не найти нас живыми. Нам тоже нечем было его угостить. Но он сказал, что скоро придет снова, когда поведет меня на работу.
* * *
Небольшой завод, спрятанный в глубоких подвалах Адмиралтейства, работал на полную мощность, обслуживая военные корабли. Корабельные мастерские существовали здесь еще при Петре Первом, когда деревянное строение Адмиралтейства служило действующей верфью, где строили и пускали на воду петровские парусники. С годами мастерские расширялись, усложнялись и работы в них, связанные с новым строительством и с починками кораблей после военных походов русского флота.
Много лет прошло, многое изменилось в адмиралтейском хозяйстве, и потребность в быстром обслуживании все новых и более современных судов, катеров и подводных лодок с каждым годом росла. Вторая мировая война поставила перед балтийцами еще более важные задачи.
Теперь в Адмиралтействе выполнялись срочные оборонные заказы Балтийского флота, действующего на северных морях. Главным образом – ремонтные работы. То, что изготовляли на станках, шло прямо на большие и малые суда, воюющие с немецкими боевыми кораблями на Балтике. Именно подводные лодки ходили тогда в дерзкие рейды по северным морям, часто возвращаясь с повреждениями. Судоремонтные мастерские в подвалах работали днем и ночью.
Начальник цеха спросил мою фамилию, имя, но записал в табель Леной и просил на Лену отзываться. «Тебя часто будут звать ребята что-то подать или убрать, – сказал он и улыбнулся. – Так им проще будет, а твое редкое имя рабочему люду непривычно. Трудовую книжку и пропуск получишь завтра». Затем вписал меня в списки на довольствие и отвел туда, где шла еще совсем непонятная мне работа, гудели станки, перекрикивались сквозь шум рабочие. «Вот вам помощница, – сказал он, – мал золотник да дорог, не обижайте ее!» И ушел к себе за загородку.
Теперь я состояла в рядах Красной Армии по вольному найму. Мне полагалась продовольственная рабочая карточка и военный паек. Родители были рады, но не могли поверить, что у меня хватит сил на работу. Я же, наоборот, смотрела на все с оптимизмом: чего мне бояться – ведь я уже побывала «на окопах».
Так для меня началась совсем другая жизнь в чем-то более трудная, но в чем-то и более легкая, чем домашняя. Вставать приходилось в полной темноте, в пять часов, одновременно с папой, который шел на свою вахту около булочной.
Я вылезала из-под двух одеял, стараясь не разбудить Надю. Спали мы все в одежде. Для выхода на улицу я натягивала на ноги шерстяные рейтузы, которые носила когда-то в детском возрасте. Закладывала в валенки импровизированные стельки из газет, чтобы меньше мерзли ноги. Трудно было назвать умыванием то, как с дрожью опускалось мое лицо в ладони, смоченные ледяной водой, после чего на свитер, в котором спала, я надевала свое пальтишко с меховым воротником, а на шапку натягивала бабушкин шерстяной платок, крепко завязав на пояснице. Этот скромный туалет завершали теплые варежки. Непременным дополнением служил бидон для супа, а суп я тоже получала на заводе.
Город, между тем, тихо умирал. Он был так же болен, как его население. Думаю, не только я, многие смотрели на него тогда, как на живое существо. Так следят за изменениями во внешности смертельно больного родного человека.
Ленинградцы, еще способные мыслить и трезво оценивать обстановку, каждый день с беспокойством присматривались к ранам, нанесенным городу бомбежками, обстрелами, пожарами.
Я выходила на темный Загородный проспект и шла на завод. Вот она, хорошо знакомая дорога к Адмиралтейству. Еще недавно – короткая. Трамвай от угла Невского и Литейного пробегал ее минут за десять-пятнадцать. Пешком, прогуливаясь, мы шли, бывало, чуть больше получаса, варьируя прямые или окольные пути. Теперь, чтобы не опоздать к началу утренней смены, я выходила из дому за полтора, а то и за два часа. В темноте безопаснее было держаться широких улиц, поэтому я шла сначала на Владимирский, а оттуда – на Невский проспект.
Пустынно на площади вокруг нашего с няней скверика у Владимирского собора. Около булочной напротив него собралось уже несколько человек, а дальше опять ни души.
Но вот и Невский. Здесь уже есть небольшое движение: люди идут в обе стороны – одни по направлению к Неве, другие – к Александро-Невской лавре. Кто-то, как я, тащится на работу, а кто-то с саночками и печальным грузом на них думает засветло добраться до кладбища.
У ленинградских кладбищ в годы блокады своя трагическая история, в энциклопедических справках о большей части старинных петербургских некрополей теперь пишут: «Место массового захоронения жителей блокадного Ленинграда» или «Место массового захоронения жертв ленинградской блокады».
Снег, везде снег… Нужно идти по мостовой. Смотреть по сторонам, о чем-то думать или вспоминать, иначе дорога покажется бесконечно долгой. Вот первый на моем пути – Аничков мост. Шапки снега лежат нетронутые на всех четырех постаментах конных статуй, еще летом спрятанных во дворе бывшего Аничкова дворца.
Теперь в заснеженном городе я пытаюсь себе представить, каким был мост в петровские времена, когда он служил городской заставой. Трудно даже вообразить, что здесь, за рекой Фонтанкой, кончался тогда Петербург, и начинались леса. А по реке ходили большие парусники.
Этот первый петербургский мост через Фонтанку, построенный в 1715 году по указу Петра полковником Аничковым, был деревянным. Как всякая застава, имел он сторожевую будку и шлагбаум, который опускался по ночам. Через десять лет мост сделали разводным. Ночью середина его делилась надвое, поднималась и пропускала корабли с высокими мачтами. Так заодно достигалась еще одна важная цель: на Невский проспект не могли забегать волки, которые частенько тревожили петербуржцев. Сейчас-то, в голодном, заснувшем под снегом городе, не увидишь не то, что опасных хищников – не заметишь никакой домашней живности, ни кошек, ни собак.
Я иду по левой стороне проспекта, той, где стоит Гостиный двор. В августе его витрины забили двойными деревянными щитами, а в сентябре тяжелая фугасная бомба разрушила несколько отсеков со стороны двора. На сводах внешней галереи еще видны следы копоти от пожара. В декабре он снова горел.
Вот со мной поравнялась женщина, она везет на саночках гробик. Знаю, с каким трудом удалось ей его добыть, чтобы похоронить ребенка. Покойников уже давно возят на кладбища без гробов, заворачивая в простыни. И я думаю о том, как далек еще ее путь, скорее всего на Смоленское, что на Васильевском острове.
В этот момент крышка гробика слетает на снег. Я останавливаюсь вместе с женщиной. Помогаю ей. Она деловито достает из мешочка молоток и гвозди. Я придерживаю крышку, она заколачивает. Все – молча. И мы обе идем дальше.
На другой стороне, напротив Гостиного двора, стоит большой красивый дом. Его цокольный этаж облицован дорогим коричневым мрамором. Сейчас в нем – ни огонька, везде темно и пусто. В левом крыле фасада здесь было знаменитое кафе «Квисисана», а в подвальчике еще более знаменитая кондитерская «Норд», которую в годы борьбы с «прогнившим Западом» переименуют в «Север».
В правом крыле, на втором этаже, помещается стоматологическая поликлиника. Здесь, где еще недавно дежурила мама, мне пришлось держать серьезный экзамен на мужество. Я несла маме на дежурство импровизированный бутерброд, вошла в темный подъезд и на первых же ступенях парадной мраморной лестницы, что ведет на второй этаж, упала на что-то большое, холодное, твердое.
О, Господи, – это были трупы, сложенные тут до поры, когда их заберет какой-нибудь грузовик.
Что оставалось делать? Мама ждала меня, другого пути в поликлинику я не знала. Людские тела лежали горой, и я по ним вскарабкалась наверх. Выскочила на площадку перед вторым лестничным маршем, пробежала еще несколько ступеней и рванула изо всех сил дверь поликлиники.
Как объяснить маме, что я пережила за минуты, показавшиеся вечностью? Когда я сказала, что ни за что на свете не пойду по лестнице обратно, она сама все поняла. Наверное, не первый раз мертвые тела укладывали в просторном вестибюле первого этажа.
Мы дождались смены и пошли искать «черный ход». В обычные дни врачи им не пользовались, но он существовал, как во всех квартирах этого дома. По узкой черной лестнице мы выбрались во двор. И увидели под аркой грузовую машину, на которую военные грузили лежавших на ступенях.
Я гоню от себя страшное воспоминание и продолжаю свой путь. Вот он, знакомый поворот к Филармонии. Концертов здесь уже нет. На левой стороне проспекта – здание Городской думы. У него тоже своя история: когда-то петербургское купечество испросило у царицы Анны Иоанновны разрешение построить в городе каменную Ратушу. При Екатерине Второй такое здание «Общего городского дома» дома было построено на углу, напротив торговых рядов на Гостиной улице. Император Павел повелел надстроить здание башней. И архитектор Яков Феррари соорудил над зданием пятиярусную башню по типу квадратной итальянской колокольни – «кампанилы».
Часы на сигнальной башне, претендовавшей тогда на сходство с башнями итальянских ратуш, теперь прочно залепил снег, и я не знаю, работают ли они. Мраморные ступени большого крыльца, на которых так любили ленинградцы назначать свидания, тоже превратились в сугроб.
Сейчас я дойду до Екатерининского канала – теперь он Канал Грибоедова. Здесь на Невский выходит чудо петербургской архитектуры – построенный Воронихиным Казанский собор. Статуи Кутузова и Барклая де Толли стоят, присыпанные снегом. Скульптуры не закрывали и не прятали во время маскировки городских достопримечательностей. Власти считали, что герои 1812 года должны и в нынешней войне символизировать традиционную непобедимость русского народа.
Они устояли до самой Победы. Так же как другой памятник: великому полководцу Суворову на площади у Троицкого моста. Эту прекрасную скульптуру работы Михаила Ивановича Козловского не успели укрыть от бомбежек и обстрелов. Собрались, было, спрятать ее в подвале соседнего с площадью дома, но как-то замешкались. А в дом тот, в намеченный подвал, как раз попал снаряд. Вторично искушать судьбу не стали.
Напротив Казанского собора стоит знаменитый дом в стиле модерн с башенкой-глобусом. Здесь когда-то помещалась знаменитая фирма «Зингер», выпускавшая швейные машины, потом разместились ленинградские издательства. Помню, как я, школьница, приходила сюда к поэту Александру Гитовичу – показывать свои наивные поэтические опыты. Смешно и неловко теперь даже думать об этом.
За углом дома Зингера на набережной Канала Грибоедова стоит дом, с надстройкой, где живут ленинградские писатели. Тогда, зимой 1941-го я еще не знаю, сколько трагических судеб связано с ним. В тридцатых годах некоторых жильцов чекисты уводили отсюда по ночам. Арестованных везли в «Большой дом» на углу Литейного проспекта и улицы Воинова.
Канал здесь покрыт пожелтевшим, нечистым льдом. Отсюда воду никто не берет. В Неве, Мойке и Фонтанке она гораздо чище.
Вот я, наконец, миновала Мойку, и на углу Большой Морской улицы смотрю на бывшее здание «Дома искусств». Какие великие имена связаны с этим знаменитым домом! Отсюда в 1828 году уезжал в Персию Грибоедов. Потом владельцем стал Елисеев – глава Правления Русского внешнеторгового банка. Русское музыкальное общество арендовало у него часть помещений для концертов.
После октябрьского переворота Петроградский совет предоставил часть особняка «Дому искусств», созданному в 1919 году по инициативе Максима Горького. Здесь, на четвертом этаже, в бывших комнатушках хозяйской прислуги, нашли приют многие писатели и поэты. Среди них – Александр Грин, Владислав Ходасевич, Михаил Зощенко, Осип Мандельштам. Сюда приходил Корней Чуковский.
Тут в холодное и голодное время они кое-как кормились. В бывших залах устраивались литературные вечера, работала поэтическая студия Николая Гумилева.
Я двигаюсь дальше. Справа показалась знаменитая арка здания Главного штаба. Наконец, уже видна Дворцовая площадь и выход к Неве. Скульптуры на крышах Зимнего дворца стоят в фантастических снеговых шапках. Снегом засыпан сквер около дворца.
Я уже иду вдоль бокового фасада Адмиралтейства. Помню, как укрывали от воздушных налетов осенью 1941 года самые верхние части здания. Тем не менее, в дни блокады на разные участки всего комплекса адмиралтейских строений было сброшено больше 20 фугасных бомб, да и снаряды в нескольких местах повредили фасад.
Мой путь заканчивается у левого ризалита великого творения Захарова, что выходит на Адмиралтейскую набережную Невы. Тяжелая ампирная дверь входа не сразу поддается застывшим на морозе рукам.
Здесь довольно темно. Верхние лампы не горят. Освещен только столик дежурного. Сейчас у меня проверят пропуск, и я спущусь в подвал, где расположены мастерские.
Так каждый день, преодолевая долгий путь пешком и естественную робость перед рабочими, втягивалась я в новую для меня обстановку. Женщин среди рабочих я не видела, коллектив состоял из мужчин. Появление худенькой школьницы ни у кого не вызывало какого-то особого интереса.
Моя должность в штатном расписании называлась «разнорабочая», а на заводском языке еще проще: «подсобница». Работа заключалась в том, чтобы подносить мастерам отдельные детали, болванки, втулки, куски металла, убирать отработанные материалы, подметать мусор. Надо было только делать все быстро и вовремя.
Со всем этим я вполне справлялась, да и вообще не гнушалась никакой черной работы. Научилась не бояться огня и горячей металлической стружки, которая летела из автоматов на станках. Ненормативная лексика тоже не пугала меня, она ко мне не относилась, а звучала в рабочих устах по привычке. И скоро я почувствовала, что принята мастерами вполне благосклонно. Никто не возражал, что я, как несовершеннолетняя, работаю полдня, и, скорее всего, догадывались, что мое зачисление в разнорабочие – своего рода спасительная акция. Тогда на многих ленинградских заводах работали подростки, и это спасало их от голода. Ослабленных ребят помещали в заводские стационары и подкармливали там.
Я не жаловалась на слабость. У меня были обморожены руки. Но все видели, что я стараюсь изо всех сил. Хлеб и обед я получала наравне со всеми. Это было целых 600 граммов – военная норма, хорошая прибавка к скудной домашней пище.
Сразу после обеда начальник цеха звал меня в свою загородку, отпускал домой, и полный двухлитровый бидон дрожжевого супа с большим куском ливерной колбасы повар давал с собой. Все это вместе с хлебом требовалось в целости донести до Пяти углов, до холодной квартиры, где драгоценной еды ждали сестра и родители.
В это время – между часом и двумя – улицы светлые, неубранный снег добавляет им белизны. Можно без боязни свернуть с Невского проспекта к Екатерининскому садику. Пройти мимо Публичной библиотеки и Александринского театра. Выйти на улицу Росси и по Чернышеву мосту, затем по переулку – на Загородный проспект.
На свету и на морозе любимая старая дорога казалась мне особенно красивой. Идти приходилось медленно, чтобы не поскользнуться и, не дай Бог, не пролить драгоценный суп. Силы поддерживало сознание, что я работаю и, по сути дела, спасаю семью от голодной смерти. Раз в месяц к ежедневному рациону добавлялся военный паек.
За пайком в Гавань, где располагались учреждения Балтийского флота, мы ходили вместе с Надей. Дома боялись, что одной мне не донести редкий набор продуктов, в котором находились разная крупа, сахар, несколько банок консервов, бутылка хлопкового масла и прочие драгоценные вещи вроде конфет, с которыми можно было «вприкуску» пить чай, то есть согретую воду.
Два рюкзачка мы с сестрой наполняли до отказа, и нести их каждой из нас было достаточно тяжело. Но для меня этот поход оказывался еще и возможностью повидаться с милым моему сердцу Васильевским островом.
Нелегким был этот многочасовой путь в Гавань. Мы выходили из дома рано утром и возвращались в полной темноте. От привычной дороги из дома к Адмиралтейству только еще начинался длинный отрезок пути к самой крайней точке острова, почти на берегу залива.
Сначала надо было спуститься к Неве по ступеням набережной и затем перейти на другой берег по ледяному полю застывшей и запорошенной снегом реки. И только потом двигаться по улицам Васильевского острова.
Стояли безоблачные морозные дни. Снег искрился и сверкал под лучами яркого солнца. Тропинка была хорошо протоптана по невскому льду. Черная цепочка людей на фоне белой равнины двигалась с Адмиралтейской набережной на Васильевский, минуя Дворцовый мост, спускаясь по ступенькам на замерзшую реку, наискосок от Адмиралтейства к Академии художеств. Здесь все поднимались на ступени около знаменитых сфинксов, а оттуда – шли к мосту Лейтенанта Шмидта и первой линии.
Васильевский остров особенно сильно подвергался артиллерийским обстрелам с Пулковских высот. Удаленный от центра и лишенный транспорта, район обезлюдел в условиях беспощадной зимы. Высокие сугробы не убирались, заиндевевшие трамвайные и троллейбусные провода, точно белая сеть, сотканная гигантским пауком, накрывали улицы. Дома стояли безмолвные, со слепыми глазницами замерзших окон, будто огромные призраки.
Мы с Надей шли молча: на морозе разговаривать трудно. Белый пар исходит от тяжелого дыхания, на бровях и ресницах седой иней. Мысли мои занимала судьба няни: где она, жива ли? Сворачивать с протоптанной дороги, идти на Средний проспект, подниматься по лестнице в холодный пустой дом, тогда как надо поспеть в Гавань засветло – сил не хватало.
В мирное время няня с Нютой уезжали на лето в деревню: в родное село Опоки под городом Порхов. Там они обычно делали небольшие запасы ягод и овощей на зиму. Да и прокормиться было легче на деревенских хлебах.
Я знала, что с начала немецкого наступления Порхов оказался в районе тяжелых боев и подвергся оккупации. Если старушка с дочерью застряли в оккупационной зоне, они могли погибнуть. Но и в блокадном городе тоже выжить едва ли могли.
Много-много раз я задавала себе неразрешимый вопрос: что с няней? Теперь, когда я шла по близким к ней улицам, и знала, что не зайду в ее дом, мне казалось, что я невольно предаю родного человека, который растил и берег меня, так много для меня сделал.
Я шла и вспоминала свое детство с няней. Вот мы сидим за книжками в детской. Вот одеваемся, выходим на Загородный проспект или гуляем в садике Владимирского собора. А вот маленькая церквушка на нашей улице, куда мы заходим поставить свечи за упокой няниных сыновей-героев войны.
Что стало с церковью в Порхове, где когда-то венчалась няня? Ведь в город пришли немцы. Уцелело ли село Опоки?
Перебирая в уме наши с няней разговоры о Боге, я пыталась себе представить, роптала ли она, пеняла ли Ему, глядя на беды и разорения, на горе и гибель ее земляков? Ведь нынешняя война была для нее уже второй разорительной войной.
Думала я и о том, что досталось мне в духовное наследство от этой замечательной женщины. Советское антирелигиозное воспитание, которые волей-неволей прошли я и мои сверстники, не уничтожило внушенных няней представлений о добре и зле. Нравственная система ценностей, одинаково присущая и ей, и моим родителям, не требовала соблюдения религиозного ритуала. Непременным условием было уважение к любой религии. Его своим собственным примером воспитала во мне мама.
Наши родители сознательно выбрали для себя путь ассимиляции в русском обществе. И в нас с сестрой они не воспитывали потребности в еврейской самоидентификации. Традиционные еврейские праздники более чем скромно отмечали для обеих бабушек, а с их уходом дух еврейской жизни остался в календаре, который и папа, и мама с детства знали наизусть. Они были уважительны и терпимы к любой искренней вере и не воспитывали в нас атеистических представлений. Это старалась делать школа, и она, надо сказать, сделала абсолютной атеисткой Надю, но не меня. Слишком много было во мне заложено детством с няней, а мама всегда была уверена, что с возрастом я найду свое отношение к вере. Сама она свято хранила бабушкины молитвенники, но никогда в них не заглядывала. Не сомневаюсь, что, пройдя школу у дедушки в хедере, она легко могла их читать.
ТАНАХ на иврите и Библия на русском языке стоят и на моей книжной полке. Их я воспринимаю, скорее, как великие создания человеческой культуры, нежели практические пособия верования. Временами я читаю выбранные места из того и другого, в трудные минуты перечитываю Псалмы Давида, но редко бываю в синагоге. Там на втором женском этаже празднично убранного здания я чувствую себя неловко в обществе нарядно одетых еврейских женщин и девушек, которые с раннего детства знают молитвы и другие тексты священной книги.
Возможно, многолетние занятия изобразительным искусством и деловые поездки в страны Европы сделали вполне естественным, что католическая месса представляется мне не менее значительной и красивой, чем торжественная православная служба.
В Мюнхене или в Лейпциге, посещая воскресные мессы, я получала огромное эстетическое наслаждение, слушая орган. В знаменитых соборах играли Баха, Генделя, Бетховена. Мое восхищение вызывали великолепные воскресные или особые церемониальные действа, блестяще костюмированные и режиссированные согласно вековым традициям католицизма.
Теперь я живу недалеко от святых мест в Иерусалиме. Здесь, в нескольких автобусных остановках от центра города, есть совершенно уникальный квартал: долина Эйн Карем. Этому поистине райскому уголку больше трех тысяч лет. Христианская традиция в Евангелии от Луки упоминает Эйн Карем как место Сретения: встречи двух будущих матерей – Девы Марии и Елизаветы, будущей матери святого Иоанна Крестителя – Предтечи.
Среди поросших лесом гор примостились в низине и на возвышенностях христианские святыни. Почти у проезжей дороги возвышается колокольня «Сент Джонса в Пустыне» – монастыря и храма Иоанна Крестителя.
Классическая базилика, тесно прижатая к скале, построена по проекту итальянского архитектора Барлуцци. Монахи-францисканцы купили этот участок в 1911 году. Через десять с небольшим лет началось строительство монастырских зданий. Легенда говорит, что Иоанн Креститель провел здесь в пустыне детство и юность, молился перед тем, как появиться на берегу Иордана. На стене монастырского дворика помещены керамические панно с текстами «Бенедиктуса» – благодарственной молитвы на многих языках мира.
Здесь служат францисканцы, говорящие по-французски. Они соблюдают все правила этого старинного католического ордена, основанного еще в XI веке. Степенные, но скромные, как положено францисканцам, они одеты в длинные коричневые рясы, перепоясанные веревкой, носят простые в сандалии на босу ногу. Многие из них африканцы. Они охотно приглашают осмотреть собор, заглянуть в сокровищницу, где собраны символы святой веры.
На соседнем холме расположился французский женский монастырь «Сестер Сиона» («Нотр Дам де Сион»). Построил его в середине XIX века католический священник Морис-Альфонс Ратисбон.
Руины, которые были на месте, выбранном для монастыря, скрывали древние постройки времен римских императоров. Но это не смутило строителей. Они возвели церковь и назвали ее «Ессе Номо» («Се человек») – словами, произнесенными когда-то Понтием Пилатом о глубоко верующем Христе. Вслед за церковью построили приют для девочек. Монахини докупили у арабов еще несколько домов и включили их в монастырские постройки. Так постепенно сложился весь монастырский комплекс.
Теперь это хорошо ухоженная территория с маленькой гранатовой рощицей и пасекой. У монахинь можно купить душистый мед и послушать хор в церкви. Есть при монастыре и гостиница, где можно получить недорогую комнатку для нескольких дней спокойного отдыха. Археологические раскопки ведутся здесь с большой осторожностью. Многие находки указывают на детали строительства времени императора Адриана.
На противоположную сторону долины, где стоят другие церкви и монастыри, дорога ведет от Источника Марии. Сюда, согласно легенде, утомленная жарой Дева Мария пришла к роднику, умылась и пила из него. Потом она поднялась в гору, где ждала ее Елизавета.
В память этого свидания высоко на горе воздвигнута «Церковь Посещения», называемая также и «Церковью Встречи». Здесь же среди цветущих кустарников расположено маленькое кладбище, и в укромном уголке с крошечным амфитеатром стоит скульптура святого Захарии – мужа Елизаветы.
Захария был поражен немотой за неверие в то, что у них с Елизаветой родится сын – будущий Иоанн Креститель. Когда же ребенок родился и немой, Захария написал на табличке имя сына – Иоанн, способность говорить вернулась, и он произнес свое знаменитое пророчество «Бенедиктус» – Благословение.
Еще выше расположен небольшой монастырский городок, который называют «Русской Гефсиманией», или «Московией». Здесь стоит Горненский женский монастырь с церковью, основанной в 1871 году архимандритом Антонином Капустиным.
Прекрасная кипарисовая аллея и небольшой, но ухоженный сад с массой цветов окружают скромное церковное здание, оштукатуренное и чисто побеленное. Кельи монахинь находятся в отдельных домиках, разбросанных среди зелени недалеко от церкви.
Сюда я иногда прихожу – в память о няне. Тут тихо и малолюдно. Далеко внизу расстилается грандиозная панорама долины Эйн Карем. Тысячелетняя древность и сегодняшний день мирно уживаются там друг с другом. Храмы и монастыри принимают посетителей и туристов, а в жилых домиках квартала идет обычная жизнь.
Цены на квартиры и маленькие виллы старинной постройки здесь очень высоки. Все они ухожены, везде зеленеют палисадники. Жители, не занятые делом, сидят в своих уютных двориках. По холмистым дорогам снуют современные автомобили.
Как бесконечно далек теперь от меня давний путь на Васильевский остров! Я долго любуюсь панорамой, расстилающейся передо мной внизу. Пешеходные тропинки завлекательно вьются среди зелени. Но пора, наконец, открыть дверь в маленький храм. Я захожу в Горненскую церковь, здороваюсь с монахиней, которая в этот день служит, ставлю свечу за упокой няниной души и спускаюсь в долину.
* * *
Суровая блокадная зима продолжалась. Мама сшила мне еще одни теплые рукавички, подлечила помороженные руки. Я втянулась в свою нехитрую работу и получала от нее удовлетворение. В семье начали привыкать к тому, что, кажется, спасены, хотя слабость и недомогание стали привычными. Но никому еще и в голову не приходило, что когда-то представится возможность уехать.
Счастье, можно сказать, свалилось на нас совершенно неожиданно. В начале февраля 1942-го, когда открылась «Дорога жизни» на Ладожском озере, архитекторам Ленинграда предложено было эвакуировать семьи членов Союза.
Многие архитекторы уже давно не приходили на улицу Герцена, где помещался Союз. Очень многие, как и мы, оставались в своих квартирах, и каждый по-своему выживал и спасал свои семьи. Чтобы оповестить о том, куда и как следует явиться для отправки, руководство Союза снарядило молодых, тех, кто крепче держался на ногах. Так и к нам однажды постучали в дверь и передали короткое уведомление о начале эвакуации через Ладогу. Разрешалось взять с собой по одному чемодану на каждого члена семьи.
Папа, несмотря на то, что голод совершенно убивал его, решил остаться в Ленинграде. Я и теперь, много раз обдумывая все обстоятельства тогдашней жизни семьи, не могу до конца понять: что им руководило, когда он принимал такое рискованное решение. Желание сохранить домашний очаг? Боязнь неизвестности? Страх оказаться в чужом городе, а может быть, и в поселке, где-нибудь в российской глубинке (а он ведь повидал их немало), где надо будет с чистого листа начинать жизнь заново с одним чемоданом в руках? Он не говорил нам о своих мотивах и не спорил с нами. Просто объявил, что остается.
* * *
О продолжении эвакуации, спасении хотя бы части жителей города кто-то во власти думал с начала окружения. Еще в осенью 1941 года осторожно, военными самолетами по воздушному коридору, эвакуировали некоторых композиторов и писателей, кое-кого из художников.
В конце сентября вывезли из города Анну Андреевну Ахматову. В октябре отправили Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Постепенная перевозка, тоже по воздуху, шла в декабре. На американских «Дугласах», пока они обслуживали Ленинград, эвакуировали кое-кого из театральных деятелей. В эти дни улетал на большую землю Евгений Львович Шварц.
Летели тогда над южным заливом Ладожского озера, где лед был еще слаб. Но постепенно он стал служить наземным коридором для будущей «Дороги жизни». Еще в ноябре 1941 года началась эпизодическая доставка в город небольших партий продовольствия.
Практического улучшения питания людей эти мизерные вливания не давали. Главной задачей оставалась эвакуация измученных голодом ленинградцев. Для этого дорога начала активно функционировать в конце января – начале февраля. Лед должен был окрепнуть настолько, чтобы позволить решиться на массовую перевозку людей.
Продолжали отправлять по льду телеги с лошадьми, на которых везли продукты для осажденного города. Рассказывали о танкисте, который первым рискнул выехать в своем танке на лед, чтобы убедиться в его прочности. Наконец, пришли долгожданные дни, когда по Ладожскому озеру пошли легкие полуторки с истощенными блокадниками.
Узнав из повестки, которую принес какой-то юноша, что 6 февраля нам надо явиться к месту сбора на Финляндском вокзале, я последний раз преодолела свою пешую дорогу к Адмиралтейству, чтобы получить увольнение и сдать военный пропуск. Исчезнуть просто так, не сказавшись, я не хотела, это мне казалось дезертирством, хотя люди тогда, бывало, исчезали просто потому, что до рабочего места уже не было сил дойти.
И вот я получила на руки свою первую в жизни трудовую книжку. Последняя пометка в ней указывала на увольнение по собственному желанию. И я радовалась, что поступила честно.
Шестое февраля. Серенький пасмурный день. Дорога жизни – это не очень длинный, но смертельно опасный путь по льду с Западного берега Ладожского озера на Восточный берег. Дачный поезд привозит ленинградцев на станцию Борисова Грива, оттуда грузовые машины везут их до железнодорожного узла Жихарево.
Здесь происходит пересадка в эшелоны, которые идут на Восток. Мы пока еще не знаем, куда едем. Два чемодана с вещами, собранные мамой (три таких увозить нам не по силам), мы погрузили рано утром на самый распространенный вид блокадного транспорта – детские саночки, и шли за ними, по очереди надевая на себя импровизированную сбрую: толстую веревку. Добраться нужно было до платформы Ленинград-сортировочная и там сесть на дачный поезд.
Сотни раз я пыталась представить себе, о чем мы могли думать, шагая на Финляндский вокзал втроем, без папы? Зная, что он может погибнуть в умирающем городе?
Помню только одно: пришедшее ко мне с войной ощущение невиданного краха, гигантского разлома жизни, в который мы с ошеломляющей скоростью летели, не видя дна. Мы готовили себя к тому, что тоже идем на гибель: в городе говорили, что ледовую трассу немцы бомбят и грузовые машины с людьми уже не раз уходили под лед.
В Борисовой Гриве меня поразил открывшийся простор. Легкий сырой ветер был признаком близости берега. Но тот не проглядывал сквозь туманную перспективу округи. Кучка прибывших вместе с нами людей топталась в ожидании грузовых машин, тех самых полуторок, которые стали в годы войны самым мобильным и надежным транспортом для людей.
С поезда нас высадили прямо на снег, и мы, ежась от холода, ждали дальнейшей отправки. Все силы, какие еще оставались после пешего пути по Ленинграду до Финляндского вокзала, были исчерпаны.
Вспоминая все детали тогдашнего ожидания, я нашла в Интернете обе станции на современной карте Ладожского озера и его окрестностей. Действительно пустынно оказалось и теперь вокруг железнодорожной ветки, где значится Борисова Грива.
Наконец, появился шофер со старенькой полуторкой. Эти машины были достаточно легкими, чтобы двигаться с людьми в кузове по льду. Молча он оглядел нашу группу и отсчитал, сколько человек может взять. Остальных, сказал, заберут другие. Потом закинул в кузов чемоданы, помог женщинам и детям взобраться туда и натянул широкий брезент прямо поверх голов пассажиров.
Опять ожидание. Мы долго сидели, тесно прижатые друг к другу под хрустящей брезентовой крышей. Машина, наконец, тронулась.
А время как будто остановилось. Не видно было дороги. Слышалось только шуршание шин да шумел на ветру насквозь промерзший брезент. В кузове пахло капустным листом: наш грузовичок, очевидно, пришел в Ленинград с грузом капусты. Только оказавшись на другом берегу, мы поняли, зачем добрый человек так старательно упаковал свой человеческий груз. Он не просто боялся обморозить слабых людей на ладожском ветру: не хотел, чтобы мы видели огромные полыньи справа и слева. Только прощаясь с нами, он рассказал, что в машину с ленинградцами, которая ехала здесь несколько часов назад, попала бомба. Тогда я поняла, почему «Дорогу жизни» ленинградцы называли в сердцах «Дорогой смерти»: да, немцы держали ее под обстрелом, и не одна машина с людьми ушла в ту зиму под лед.
И вот мы снова оказались на твердой земле. Станция Жихарево выглядела солиднее Борисовой Гривы. Разбираясь в карте местности, я попутно прочла, что вокруг нее еще с 1930-х годов велись торфяные разработки, рядом находилась исправительная колония, которая их обслуживала. И этот глухой, болотистый край, как многие северные районы вокруг Ленинграда, тоже принадлежал Ленинградскому управлению так называемых исправительных лагерей.
Колонию давно эвакуировали, и ко времени прибытия автомашин с блокадниками здесь виднелись лишь следы запустения. А на самой станции Жихарево слышался людской шум, стояли и сидели уставшие истощенные люди, готовились к отправке эшелоны. Здесь организовали первый пункт выдачи сухих пайков.
Неужели Озеро и страх переправы – позади?
Жили мы много лет рядом с Ладогой, как называли озеро ленинградцы, но мало знали ее. Привыкли к тому, что каждой осенью Нева выходила из берегов: это озеро гнало в залив свои бурные воды. Весной по реке мчались ладожские льдины, громоздились торосы. Более шестисот красивых, богатых островов с древнейших времен украшали этот северный край. И видели эти острова многие повороты истории.
Я не говорю здесь об острове Валааме или о Соловецких островах, где большевики еще в начале двадцатых годов создали концентрационные лагеря, через которые прошли тысячи невинных людей. О них уже давно написали такие свидетели-ученые, как Дмитрий Сергеевич Лихачев или талантливый писатель Юрий Нагибин.
Для моего рассказа важна старинная крепость «Орешек» на острове Ореховом. Она не раз подвергалась нападению шведских войск. Победив в Северной войне 1700–1721 годов, Петр Первый окончательно вернул крепость России и назвал ее Шлиссельбургской.
Я уже рассказывала, что 8 сентября 1941 года немецкая армия захватила город Шлиссельбург и тем закончила полное окружение Ленинграда. Но сама крепость не сдалась. Целых 500 дней небольшой гарнизон оборонял ее и не дал немцам переправиться на правый берег Невы. Именно здесь прошло немало жестоких боев, чтобы отвоевать на клочке земли правого берега относительно безопасное место для приема, а затем и для отправки ленинградцев на Большую землю.
Все же добраться до озера и даже перебраться на берег Большой земли еще не значило для блокадников выжить. Отсюда эшелоны, составленные из товарных вагонов, направлялись, главным образом, в Вологду и Череповец – первые пункты приема людей, эвакуированных из Ленинграда.
Там поезда стояли несколько часов, а пассажиры проходили обязательный врачебный осмотр и санпропускник.
Санпропускник – это особое заведение, хорошо знакомое поколению, знавшему Первую мировую войну. Наш папа строил санпропускник в Москве в 1918 году, когда столице угрожал сыпной тиф. Теперь не одно, а много таких заведений понадобилось для эвакуированных ленинградцев, долгие месяцы лишенных элементарной гигиены в условиях блокады.
Все пассажиры ленинградских эшелонов страдали педикулезом, а подчас несли на себе и тифозных паразитов. Все давно не мылись, не стирали белье и не чистили верхние вещи. К врачам в пунктах приема они попадали только после того, как вся их одежда прожаривалась при высокой температуре в огромных автоклавах, а сами ее носители проходили баню. После всех этих процедур и бесплатного обеда они получали документы для проживания в городах средней России, Урала, Сибири.
Эшелоны с блокадниками медленно ползли на восток с долгими стоянками, пропуская регулярное движение товарных и пассажирских поездов. В каждой теплушке – нары, два-три уголка для эвакуированных семей, место для одиночек.
Снова продуктовый паек, кипяток на станциях. Вся эта система была очень хорошо продумана и организована, хотя условия походной жизни оставались тяжелыми. Тяжко приходилось всем, но тяжелее других было сильно ослабленным людям. Обострялась дистрофия, начинались другие болезни, вечные спутники всех войн. Многих больных и слабых смерть настигала в дороге.
Нашему папе, хорошо знающему российские железные дороги, было чего опасаться, когда он задумался об отъезде. Иногда, выскакивая на какой-нибудь остановке за водой или кипятком, мы, жители теплушек, находили на междупутье одиноко лежащие трупы. Страшно было подумать, что и в нашем вагоне случится что-то подобное. Перед нами была долгая дорога в неизвестность, в которой предстояло жить, но можно было и умереть.
Первые два-три дня в нашей теплушке у всех, кто мог двигаться, силы и время уходили на то, чтобы приспособиться к эшелонному быту. Я следила за остановками, бегала за кипятком, помогала маме готовить нехитрую еду.
Надя совершила большую ошибку еще в Жихареве: не удержавшись при виде настоящей пищи, она съела сразу весь сухой паек. Ни мама, ни я – мы не смогли ее остановить.
Очень скоро у нее начались сильные боли в желудке, поднялась температура. И теперь она лежала на нарах, безмолвная и неподвижная. Временами казалось, что признаки жизни совсем покидают ее, и нас с мамой охватывал ужас. Наш эшелон плелся, постоянно оставляя за собой печальный след из тех, кто умер в пути.
Мы проезжали город Галич. Я вспомнила, что следующей за ним станцией должна быть Николо Полома, откуда Нина Напалкова с родителями обычно ездила в свою деревню. Молнией мелькнула мысль уговорить маму сойти с поезда и везти Надю туда к друзьям. У них, наверное, можно будет ее подлечить. А потом двигаться дальше. Назначение мы надеялись получить в село Емуртлу, где находился после отъезда из Гаврилова Яма детский интернат Союза архитекторов.
Я знала, что деревня, где жили Напалковы, находилась от Николо Поломы километрах в пятнадцати-двадцати. И Нина рассказывала, как летом их по обыкновению ждала лошадь, и каким веселым был путь в деревню. Дружная семья Напалковых имела в деревне двухэтажный добротный дом и немалое хозяйство. Скотину они не держали, но большой огород обрабатывали летом все, кто приезжал. Ходили в лес, собирали грибы и ягоды. На зиму привозили в Ленинград свою картошку, овощи, квашеную капусту, соленые грибы и огурцы. Варили варенье, покупали на пасеке мед. Мы с Ниной часто забегали к ней домой после школьных уроков, лакомились жареной картошкой с солеными груздями, чаем с деревенским вареньем.
Первая советская трудовая школа – бывшая немецкая гимназия, где учились все дети Напалковых и мы с Надей, находилась рядом с их зимней квартирой – за одним из Пяти углов, на Разъезжей улице. Володя Напалков и Надя Ганкина успели школу закончить, когда мы с Ниной, младшей сестрой Володи, поступили в начальные классы. За нами шел сын Шуры – Коля.
Володя сразу после окончания десятилетки в 1931 году уехал в Москву и поступил в студию МХТ, в Ленинграде ее называли Студией Станиславского. С начала войны он ушел добровольцем в парашютно-десантные части и вскоре погиб. Михаил Михайлович – отец Володи, Нины и Шуры – скончался незадолго до войны. Дружеские отношения между родителями обеих наших семей крепли в общих невзгодах. И я надеялась на то, что, если мы доберемся до деревни – нам помогут. Я еще не знала, что Нина, не желая терять учебный год, сразу уехала из деревни в Ташкент – поступать в Ленинградский медицинский институт, эвакуированный в этот большой среднеазиатский город.
Нелегко далось мне решение убедить маму в том, что остановка в пути спасет Надю. Кто знал, найдется ли лошадь, удастся ли доехать с больной до желанной цели?
Впереди ждала полная неизвестность, и в какой-то момент я сама испугалась взятой на себя ответственности. Где-то в глубине моей души уже копошилась подленькая мыслишка: еще ведь может случиться, что поезд проедет мимо Николо Поломы, и тогда не придется выходить, не придется ничего менять. Но мама молча начала сборы. Мне казалось, она делала все машинально, как будто думала, что ужасный конец предрешен, но у нас хотя бы будет возможность не оставлять Надю, как других умирающих, на земле посреди дороги. Надя же ни в чем не участвовала, готовая подчиниться любому решению.
Поезд остановился. Частенько он останавливался среди чистого поля. Но на этот раз снаружи послышались чьи-то голоса, какой-то шум. Это была большая станция. Через некоторое время кое-где открылись двери теплушек. Кто-то выскочил на землю. Эшелон стоял на одном из крайних путей, это значило, что он простоит тут не меньше часа. У вокзальной платформы было пусто. На фронтоне типового здания небольшого аккуратного вокзала я прочла: «Николо Полома».
Времени на размышления больше не было. Я подхватила чемоданы и столкнула их на землю с пола теплушки. Соскочила сама и помогла спуститься маме и Наде. Поезд стоял, как будто давал нам передышку и время, чтобы оглядеться.
С тревогой я посмотрела на маму. Что за мысли проносятся сейчас в ее голове, готова ли она к тому, что нас ждет впереди? Я смотрела на нее и думала о том, что успела она пережить за последнее, такое трудное время.
Я знала, что в зимние ленинградские дни она страшно тяготилась отсутствием привычной работы. Она мало говорила с нами и не знала, куда себя деть. Ее психика меньше пострадала от дистрофии, чем папина, но зато углубились внутренняя сдержанность и скрытность. В детстве она знала нужду, бедность, недоедание и оказалась больше готова к военным лишениям, чем он.
Воспитание в родительском доме и врачебная профессия сформировали личность, совершенно лишенную эгоизма. У нее не возникало страха за себя. С тревогой думалось о муже, о детях. Как врач, она слишком хорошо понимала, что ждет осажденный город и его население, если блокада продлится долго.
Глядя на папу, который еще раньше Нади пал духом и явно не справлялся с навалившимся на него испытанием воли и характера, она боялась за него. Особенно потому, что знала: из привычки к лидерству в семье, из гордости, из-за пережитого унижения от уже проявленной слабости – он не потерпит ничьей помощи. Может быть, еще и поэтому он не хотел уезжать? А теперь он остался один. Может быть, напрасно мы не настояли на его отъезде с нами?
Я могла только предполагать, какие мысли и чувства обуревали маму еще там, в Ленинграде, пока мы тащили на Финляндский вокзал детские саночки с чемоданами.
За долгую пешую дорогу от Загородного проспекта до Литейного моста, открытого всем февральским ветрам, и подхода к вокзалу можно было обдумать и мысленно заново пережить целую жизнь. Последние силы ушли на то, чтобы добраться до станции «Сортировочная».
Все это происходило как будто независимо от нашей воли. Кто-то за нас так решил, и мы шли. Кто-то распоряжался нами в дачном поезде. Потом на ладожском берегу. Потом в эшелоне. И только теперь, сойдя наземь на незнакомой станции, глядя вслед медленно уходящему последнему вагону состава, в котором успели прожить несколько суток, мы поняли, что отныне все дальнейшее лишь в наших руках. Еще недавно нам говорили, что делать, чего и сколько ждать. Теперь же мы одни – одни на свете.
Куда идти? Кого искать здесь, около полупустой в этот час железнодорожной станции?
В любом случае надо было как-то действовать
Сначала мы перебрались поближе к вокзалу. Обошли платформу и очутились на площади позади небольшого здания. Здесь было пустынно, только в стороне стояла, запряженная в сани, одна-единственная лошадь. Ее хозяин, явно пожилой человек в теплой ушанке, в тулупе и высоких чесанках, спокойно осматривал упряжь, оправлял оглобли, приминал сено внутри розвальней. Будто кого-то ждал.
Мы подошли. Я спросила, далеко ли деревня Долматово, и не сможет ли он нас туда отвезти. Глядя на нас, исхудавших и измученных, он сразу понял, что мы сошли с одного из тех эшелонов, что везут и везут мимо станции ленинградцев.
Степенно осведомился, к кому мы едем в деревне, и оказалось, что сам он живет в Долматове и Напалковых знает давно. Рассказал, что вскоре после того, как они прошлым летом приехали из Ленинграда, большую часть своего дома Александра Ивановна отдала ребятишкам эвакуированного детского сада, а сама с дочкой и внуком поместилась в нижней горнице. Дочка пожила с ними немного и уехала учиться.
Мы договорились легко. Денег за доставку в деревню наш новый знакомый не запросил вовсе, а сказал: «Если предложите что из одёжки, или другую какую-нибудь вещицу, то и ладно будет».
Мне хорошо знаком был это северный певучий окающий говорок. Так говорили дома у Напалковых старшие, особенно бабушка Вера.
Начали собираться в дорогу. Хозяин лошадки заботливо уложил Надю в сани, покачал головой, глядя на ее бледное, бескровное лицо, прикрыл старенькой теплой овчиной. Потом пристроил спереди чемоданы, а нас с мамой усадил по бокам. И лошадь, которую он ласково понукал: «Но, милая!», тронулась. Хозяин вышагивал рядом.
Проехали площадь, за ней – небольшой привокзальный поселок. Дорога недолго шла по открытой местности. Наш хозяин присел на передок саней. Вскоре впереди показалась широкая просека. По обе стороны от нее простирался лес.
Стоял тихий пасмурный безветренный день февраля. Столетние ели возвышались по обе стороны санного пути, хорошо наезженного за зиму. Огромные снежные шапки лежали на широких мохнатых ветках елей. Редкая птица садилась на деревья и скоро улетала, оставляя за собой сыпучий белый след снега.
Густой, темный лес казался суровым, совсем непохожим на сосновый бор ленинградских пригородов или на богатые лесные дали Песи, полные лиственных деревьев и открытых полянок. Все вокруг казалось таинственным и немного чужим. Чистый зимний воздух опьянял, но еще не мог избавить от тревожных мыслей, державших в плену подавленное войной сознание.
Было еще светло, когда на первой остановке в пути мы с мамой встали, чтобы размять ноги. Я впервые за все время нашего путешествия внимательно разглядела ее хрупкую фигурку в одежде, мало приспособленной к деревенской зиме. Как всегда хорошо сидело на ней суконное пальто с легким меховым воротником. Но пригодно оно было скорее для влажных и теплых ленинградских зим, какими мы знали их до войны, а не для деревенских морозов. Туфли прикрывали короткие суконные ботики, вовсе не способные защитить от снега. Маленький фетровый беретик не защищал голову от стужи. Все это годилось в городе, а не в заснеженном лесу, не в деревне.
Ей было холодно, она изо всех сил сдерживала дрожь. Но больше всего меня поразило ее лицо. Обычно приветливое и открытое, оно затуманилось теперь незнакомым отсутствующим взглядом. Грустная полуулыбка, которой она старалась ободрить меня, скрывала крепкую задумчивость и глубокую горечь. Застывшие губы напоминали трагическую маску.
В голове моей пронеслось: ведь это я, да, я, навлекла на нее непосильные переживания. Я настояла на рискованной остановке в пути, не уверенная в том, чем она может закончиться и спасет ли Надю. А что если не спасет? Мне захотелось броситься к маме, обнять, приласкать, обнадежить, но от жалости и страха за нее, я окаменела и ни на что не решилась. Мы обе стояли рядом и молчали. Наш добрый возница немного похлопотал вокруг лошади и подал знак садиться. В глубоких сумерках мы, наконец, подъехали к деревне. И вскоре увидели большой дом Напалковых.
В окнах уже горел слабый свет. Услышав около дома скрип саней и голос нашего возницы, остановившего лошадь, Александра Ивановна вышла на крыльцо. Здесь никого не ждали, и она в тревоге взглянула на лошадь и на нас. С трудом узнала меня, но все еще, казалось, не верила своим глазам. И не сразу поняла, с кем я приехала – настолько незнакомыми показались ей исхудавшие лица мамы и Нади. Прошел первый шок, из добрых глаз ее полились слезы. Она по-деревенски заохала, запричитала и повела всех в дом, по-соседски поблагодарив хозяина лошадки. Он вошел вслед за нами. Мама открыла чемодан, вынула из него лежавшую сверху большую красивую скатерть и отдала ему с благодарностью.
Обитатели верхней части дома – воспитательницы детского сада и дети – тоже выбежали на улицу. Их быстро уговорили вернуться и не беспокоить приезжих, сказали, что те заболели в пути. Дети пошумели и убежали. Александра Ивановна плотно закрыла двери в дом. Снова оглядела нас, размышляя, что делать. Большая русская печь еще хранила дневной жар. Надю общими усилиями раздели и уложили на теплую лежанку. Она молча, вяло подчинялась всему, что ей предлагали. Есть ей еще было нельзя. Кто-то принес парное молоко, и мама стала поить ее с ложечки, как ребенка, пока она не уснула. Александра Ивановна дала нам с мамой умыться, усадила за стол и приготовила постель на полу.
На столе дымилась горячая картошка в мундире, рядом стояла миска квашеной капусты, лежала горка очищенного чеснока. Этот натюрморт казался нам чудом после сухих пайков, полученных в дороге. Александра Ивановна села напротив нас мамой, все смотрела и уговаривала не стесняться. Мы ели медленно, осторожно, понемногу. Забытый вкус настоящего хлеба и простой домашней еды еще вызывал глотательные судороги. От слабости, от сочувственных и опасливых взглядов заботливой Александры Ивановны хотелось плакать.
Мы мало говорили в тот вечер. Только рассказали о том, как жили у Шуры, как наш папа остался в городе. Расспросили о Нине и ее жизни в Ташкенте. Она уехала к началу учебного года и в письмах к маме писала, что устроилась хорошо.
После еды сильно хотелось спать. Давно забытое ощущение тишины и покоя в этот мирный деревенский вечер охватило меня. Мама еще долго заглядывала на лежанку, прислушивалась, дышит ли Надя. И, наконец, легла. А я впервые за долгие тревожные дни сразу крепко уснула.
Наступило утро, и с ним – чувство безопасности. Первое, что сразу вошло в сознание, были мирные звуки, далекие от привычных звуков войны. Не слышно ни гула самолетов, ни свиста летящих снарядов, ни разрывов бомб. Деревенская тишина иногда прерывалась криком петуха, да и тот быстро замолкал. Вслед за петухом кудахтали куры. Порой лениво лаяла собака.
Александра Ивановна нашла для нас уединенное жилье. Немного в стороне от деревни, на взгорке, стояла просторная изба одинокой пожилой женщины. Имя ее, к сожалению, я не помню. Не помню и того, что рассказывала она о себе и своем одиночестве. С мамой эта милая женщина беседовала тихо, доверительно, и они быстро подружились.
Хорошо помню это почти сказочное время, когда наша спасительница с охотой и добросердечием поила, кормила и угощала нас тем, что имела. Временами мне казалось, будто вернулись незабываемые дни, прожитые с мамой в Песи или в Зубовой горе. И еще горше становилось оттого, что папы не было с нами, и мы ничего о нем не знали.
И все же, жажда жизни и желание поскорее прочно встать на ноги брали свое. Первые два дня ушли на то, чтобы хорошенько отмыться, постирать и высушить белье. Всех нас особенно смущало то, что никто еще не имел достаточно сил, чтобы натаскать воды. Только к концу первой недели я сумела с помощью хозяйки достать из колодца и принести в избу ведро.
Прошли еще несколько дней, и она научила меня носить два неполных ведра на коромысле. Простая деревенская пища не отличалась разнообразием, зато была вкусной и здоровой. Утром на столе уже стояло парное молоко, хозяйка доставала из жаркой печи хлеб с хрустящей корочкой, картофельную запеканку, щедро политую яйцом. А в глубине, на шестке горнила томились к обеденному времени постные щи или картофельный суп и какая-нибудь каша. Лук и чеснок не убирался со стола: они заменяли нам все лекарства. Так мы прожили около трех недель.
Удивительно красивые места окружали этот дом. Деревня темнела большим пятном в низине, у дороги. Здесь же, вокруг все казалось нетронуто и бело: расстилались под снегом невысокие холмики и распадки, редкие лиственные деревца и кусты еще голые, торчали тут и там, а где-то внизу журчал не замерзающий быстрый ручеек.
Надя стала потихоньку поправляться. Сначала, пошатываясь, ходила по горнице, потом стала выходить на воздух, сидела на шаткой деревенской скамеечке рядом с домом. Глядя на нее, я однажды, наконец, почувствовала, что тяжкий груз ответственности за рискованную остановку в пути свалился с моих плеч.
Мама тоже приободрилась, и теперь можно было хоть какое-то время жить без опаски, наслаждаясь деревенским покоем. Собраться с силами, чтобы продолжить длинную дорогу в Сибирь. Но у нас еще не было документов с назначением. Нужно было добраться до города Череповец, чтобы их получить.
Самый снежный месяц зимы двигался к концу. В небе среди быстро бегущих облаков уже открывалась порой бездонная голубизна. По утрам все чаще светило солнце, и сосульки собирались под крышей дома. Ветер налетал и качал верхушки голых деревьев, шевелил припорошенные снегом кусты. Чисто и уютно было в избе, но с каждым днем приближалась пора отъезда из гостеприимной деревни.
Наступил день, когда мы снова сидели в санях нашего доброго теперь уже знакомого хозяина, чтобы ехать на станцию. Снова плакала Александра Ивановна. Наша хозяйка тоже прослезилась, обещая, что не забудет нас. Мама в благодарность оставила ей на память хорошие вещи из своего ленинградского гардероба.
Для того чтобы сесть в эшелон, идущий в Череповец, первый город, где принимали ленинградцев, не требовалось проездного билета. Важно было, чтобы поезд с очередной партией эвакуированных ленинградцев, идущий на восток, остановился в Николо Поломе.
Кроме справок из блокадного города, документами служили наши фигуры и лица, на которых все еще сохранялись следы дистрофии. Я обратилась к начальнику станции с просьбой помочь нам доехать до Череповца, рассказала о вынужденной остановке. Он посоветовал набраться терпения и ждать, пока не представится случай ехать дальше.
В одной из теплушек эшелона, проходящего через Николо Полому, в тот же день нашлось свободное место, и мы довольно спокойно добрались до Череповца. Здесь был большой разъезд, стояли еще эшелоны. Наш поезд быстро опустел. Появились какие-то служащие вокзала, закрыли вагоны, где оставались вещи, и направили пассажиров в пункт приема эвакуированных. В группе из нескольких человек нас тоже повели к вокзалу, потом дальше, туда, где был открыт большой санпропускник. В просторном помещении мы снимали верхнюю одежду и сдавали для дезинфекции. Тем временем врачи проводили медицинский осмотр. В отдельном помещении работала столовая. Все происходило организованно и спокойно, оставалось лишь точно следовать установленному порядку.
После всех процедур и горячего обеда мы перешли в новое помещение и попали в длинную очередь за направлением к месту назначения. Все прибывшие вместе с нами стояли в длинном коридоре большого барака, отведенного для оформления документов.
И вдруг мне показалось, что я вижу папу. Отдаленно похожий на него человек медленно шел к выходу мимо нашей очереди. В первый момент я не могла поверить, что это папа, настолько сильно он исхудал по сравнению с тем, как выглядел в Ленинграде. Но я узнала его знакомое мне пальто и, главное, глаза! Красивые папины глаза стали огромными на обтянутом кожей худом лице. Они не могли принадлежать никому другому.
Я решилась и остановила его. Мы трое не верили своим глазам в то, что действительно стоим рядом с ним – так это было неожиданно. Но мне показалось, что папа не выразил ни радости, ни удивления. Он двигался как во сне. Это был страшно изменившийся, измученный до неузнаваемости человек. Какого, должно быть, труда и крайнего отчаяния стоило ему изменить свое решение остаться в Ленинграде и все же двинуться в путь одному, не зная, где мы и что с нами!
Он только и успел рассказать, что его разыскали сослуживцы и вывезли из города вместе с сотрудниками управления, где он работал. И теперь он приписан к их эшелону. Там его вещи и спутники, с которыми он уже сжился за то время, что едет из Ленинграда. Ему удалось получить направление в Емуртлу, в надежде, что найдет там не только Оленьку, но и нас троих.
Он, разумеется, не знал, что мы застряли в Николо Поломе, и никак не ожидал встретить нас в Череповце.
Боже, как он ослаб! Едва держался на ногах, говорил с трудом, и только крепко держал в руках свои документы. Из краткой торопливой речи мы поняли лишь одно: папа должен поскорее уходить, чтобы успеть на свой поезд. Иначе он потеряет свои вещи и место в эшелоне. А в этой коллективной зыбкой жизни на колесах человек без своего законного места – никто. Ничего уже нельзя было изменить. Он торопился и как-то судорожно простился с нами. Я проводила его к выходу с надеждой встретиться в Емуртле.
Что знали мы об этом вожделенном месте встречи? В сущности ничего. Село Емуртла, Упоровский район Тюменской области – это был адрес интерната и детского сада Архитектурного фонда, который и мы, и папа твердили как заклинание.
Однако до Емуртлы добрались только мама с Надей. Много всего произошло на долгом пути, и с папой, и со мной.
* * *
В Свердловске наш поезд стоял много часов. Тут останавливали все эшелоны, потому что пассажиров снова осматривали санитарные врачи. Сеть железнодорожных путей раскинулась огромная, несколько перронов тянулись на разных расстояниях от вокзала. У одного из перронов стоял наш поезд. Время тянулось медленно, все ждали отправки.
А я еще ждала чуда: после расставания с папой мы тоже получили направление в Восточную Сибирь, в село Емуртлу через Свердловск, и я наудачу послала об этом телеграмму своей школьной подружке Лиле. Я ведь знала, что в самом начале организованной эвакуации учреждений из Ленинграда ее семья уехала в Свердловск с большим стратегически важным институтом Гипромез. Точного адреса в Свердловске я, однако, не знала и, не особенно рассчитывая на то, что телеграмма придет, написала просто наудачу:
«Свердловск. Институт Гипромез. Авидону. Едем эшелоном ленинградцев через Свердловск. Элла»
Авидон – это была фамилия Лилиного отчима, Александра Борисовича, который был одним из видных сотрудников в Гипромезе.
Я, надо сказать, ни тогда, ни спустя много лет после всех военных событий не могла понять, как могло случиться, чтобы Лиля нас нашла в тот, как будто назначенный Судьбой день и час.
Наш эшелон стоял, как все такие же, далеко от вокзала, на запасных путях. Для нас это был отдых перед неведомой дальней дорогой.
И вдруг я услышала, что кто-то быстро бежит вдоль вагонов, останавливаясь у открытых дверей теплушек, и громко спрашивает:
– Есть среди вас Ганкины? Тут едут Ганкины? – услышала я доносившийся издалека знакомый голос.
Конечно же, это была она. Прежняя неугомонная, самая энергичная среди нас, трех подружек, немного суматошная, прежняя Лилька – Лилёша. Она вскочила в вагон, потом выскочила, потащила за собой меня и маму.
Она выглядела серьезной, уверенной в себе красивой девушкой. От легкомысленной школьницы с косичками вокруг головы в ней уже ничего не осталось. Она работала на ленинградском заводе «Телетайп», тоже в свое время вывезенном в Свердловск.
Институт, где служил ее отчим, обеспечил семьи своих сотрудников жильем, продовольственными карточками и пайками. Дом, где они жили, стоял в сосновом лесу в поселке под названием «Втузгородок» недалеко от Уральского индустриального института и от завода.
Лилина мама Анна Алексеевна работала в местной эстраде. Ее, актрису ленинградского эстрадно-музыкального театра, сразу привлекли к выступлениям в Свердловске и области.
Лиля спокойно и подробно рассказывала о себе. Услышав, куда мы едем, воскликнула: «Ну что же ты будешь делать в деревне?».
«Эмилия Ильинична, – сказала она маме, – оставьте ее здесь в Свердловске, она поработает на заводе до начала учебного года, а потом поступит в какой-нибудь институт. Мы все ей поможем, и жить она сможет у нас».
Я молчала, не решаясь проронить ни слова. В голове и в душе все смешалось – желание остаться и страх за своих, боязнь отпустить одних в сибирскую даль. Ведь до сих пор я как будто брала на себя и заботу, и ответственность, за жизнь мамы и Нади. Как они будут без меня? Только недавно мы опять потеряли папу, а вдруг и вовсе потеряем друг друга?
Вспоминая то время, я до сих пор удивляюсь мудрости и самообладанию, с какими мама сразу согласилась на Лилино предложение и стала собирать для меня рюкзак с вещами. Надя не участвовала в общем разговоре, блокадная депрессия еще не оставила ее.
Мама молча надела на мою спину рюкзак, кое-что еще уложила в старенькую сумку-авоську. Мы все крепко обнялись. И только успели с Лилей сойти на перрон, как тяжелые буфера дрогнули с глухим стуком, эшелон медленно стал набирать ход. Все свершилось в какие-то доли часа. Еще минуту я видела мамино лицо и прощальный взмах руки. Потом скрылись и они.
Молча стояли мы с Лилей на перроне и смотрели вслед уходящему эшелону. Пора было ехать в город.
Все происшедшее в Николо Поломе, где случайно остановился наш прежний эшелон, оказалось счастливым совпадением обстоятельств. А теперь еще и моя телеграмма, с довольно странным текстом вместо точного адреса, попала в Свердловск вовремя. Это было одно из чудес военной почты.
Я не знала, что еще одно подобное чудо ждет меня впереди.
* * *
Теперь пора рассказать о самом Свердловске, бывшем Екатеринбурге, которому только в 1991 году вернули его исконное имя. Именно он, этот большой уральский город, стал в годы войны крупнейшим центром, вобравшим в себя огромную долю промышленности, вывезенной из европейской части СССР, многие учреждения культуры и вместе со всем этим массу эвакуированного населения.
Здесь невольно напрашиваются некоторые исторические аналогии между старым Петербургом и более молодым Екатеринбургом: детище Петра Великого – Петербург – создавался как «окно в Европу». Екатеринбург, основанный по указу того же Петра ровно через двадцать лет, в 1723 году стал «окном в Азию».
И хотя поначалу Екатеринбург представлял собой всего лишь железоделательный завод-крепость, заложенный в честь Святой Екатерины – покровительницы Екатерины Первой, жены Петра Великого, он скоро получил статус города, столицы огромного горнозаводского края на границе двух частей света.
Когда Россией правила уже Екатерина Вторая, через Екатеринбург пролегала главная дорога империи. К западу от него шел Московский тракт, к востоку – Большой сибирский тракт. И тут, около горы Березовой на восточном склоне Уральских гор стоял и стоит до сих пор знак «Европа–Азия».
В те военные годы, когда на этом географическом распутье вершилась судьба нашей семьи, мы мало знали об истории города, получившего в 1924 году имя большевика Свердлова.
И папа, и мама проезжали через него, один – в 20-х, другая – в 30-х годах, но мало знали о том, как проходила в городе революция 1917 года. Не знаю, что было известно моим родителям о расстреле там царской семьи летом 1918-го. В газетах того времени сообщения появлялись, но родители никогда не вспоминали и не говорили с нами об этом.
У Марины Цветаевой есть короткая новелла «Расстрел Царя», где она пишет об июльских днях 1918 года в Москве. Вот небольшая цитата: «Стоим, ждем трамвая. Дождь. И дерзкий мальчишеский петушиный выкрик:
– Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова! Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!
Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая и тоже (то же!) слышащих. Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы кто! Хоть бы что! Покупают газету, прогладывают мельком, снова отводят глаза – куда? Да так, в пустоту».
В 1918 году Свердловск пережил захват города войсками чехословацкого корпуса и стал центром формирования Сибирской армии Колчака. Так что советская власть вернулась в него далеко не сразу. Но шло время, и к концу тридцатых годов уже не горное дело, а развитие металлургии и тяжелого машиностроения сделало Свердловск одним из крупнейших индустриальных центров Советского союза. Он стал большим железнодорожным узлом, через который шли несколько магистралей, соединявших Европу и Азию.
Этот сухой перечень историко-экономических характеристик еще ничего не говорит о богатстве городского ландшафта Свердловска. Живописные предгорья Урала. Река Исеть с ее холмистыми берегами, что, подобно Неве, пересекает весь город от края до края. Естественные и искусственные водоемы по ходу ее течения. И, наконец, горные массивы и озера лесистых окрестностей, – все это таило в себе поистине сказочную красоту.
Зимой 1942 года город лежал под снегом, и всей его истинной прелести я не видела. Лиля сразу увезла меня во Втузгородок, где жили работники Гипромеза и находился завод «Телетайп», на котором она работала. И я до весны почти не бывала в центре города.
Свердловск к этому времени был до предела перегружен перемещенными с запада предприятиями. Он принял и разместил у себя ленинградский Ижорский завод, несколько других оборонных предприятий, заводы Харькова, Мариуполя, Кировограда.
Еще в июле 1941 года Государственный Эрмитаж отправил в Свердловск эшелон особого назначения с 500.000 ценнейших музейных экспонатов, а вскоре еще один эшелон. Третья очередь, подготовленная к отправке, застряла в окруженном городе.
Государственный Русский музей успел, к счастью, вывезти художественные ценности в Пермь. В Свердловск же отправили Ленинградский театр оперы и балета и Малый оперный театр.
После окружения Ленинграда в сентябре 1941-го поток учреждений оттуда прекратился. Но когда немецкие армии начали угрожать Москве, в Свердловск эвакуировали Московский художественный театр, Театр Красной армии, Театр сатиры. К тому времени здесь уже была Киевская консерватории и Военно-воздушная академия имени Жуковского.
С июля по декабрь 1942 года несколько городов Урала приняли, вместе с эвакуированными предприятиями и культурными учреждениями, 2 миллиона 127 тысяч человек. Около миллиона из них расселили в Свердловске. Как только в феврале 1942 года открылась дорога по Ладожскому озеру, в Свердловск буквально хлынули жители блокадного Ленинграда. Ко всему этому надо добавить массу передвижных и стационарных военных госпиталей, работавших с начала войны в Свердловске.
Город жил очень напряженной жизнью. Несмотря на удаленность от фронтов, война шла как будто рядом. И никто из давних и из новых горожан понятия не имел о том, что где-то, в глубоко засекреченной студии, круглые сутки дежурит известный всей стране всесоюзный диктор Юрий Левитан. Его знаменитый голос и слова «Внимание, говорит Москва!» ежедневно неслись в эфир вовсе не из Москвы, а из Свердловска.
* * *
Горькие думы о родителях не оставляли меня с первых дней жизни во Втузгородке. Мысленно я блуждала по сибирским дорогам и пыталась представить, как ослабевшие донельзя папа или мама с Надей одолевают долгий путь в Емуртлу. Но молодость и множество хлопот об устройстве в Свердловске делали свое дело. Нужна была прописка в доме, где жили гостеприимные Авидоны, нужны были продовольственные карточки и, главное, работа, что дала бы возможность не стать обузой для Лилиной семьи.
Сама Лиля проявляла чудеса энергии и душевного тепла. Мы жили как родные сестры, и в этом тандеме она была старшей, а я, натерпевшаяся всех ленинградских бед, охотно стала в положение младшей. Слишком много серьезных решений я уже успела в одиночку приять за короткий военный срок. Так что плыть на мягких волнах дружеской заботы казалось теперь наградой.
В то время бюрократическая машина в Советском Союзе ставила немало препон перед гражданином, меняющим место своего жительства. Человек не мог прописаться в новом для него месте, если он нигде не работал. В то же время, даже найдя для себя место работы, он не мог его получить, если не имел штампа в паспорте о прописке. Такое положение существовало во всех городах Советского Союза. Это был заколдованный круг.
Завод «Телетайп», куда Лиля надеялась меня определить, представлял собой закрытое предприятие, связанное с оборонными заказами, и попасть туда, что называется, «с улицы» не мог никто, тем более человек без прописки. Но Лилю успели полюбить на заводе, ее ручательство за сестренку и мое положение блокадницы (это, с позволения сказать, звание обладало почти магической силой) нам помогло. Я получила справку о том, что работаю на заводе. А вслед за тем и прописку. Оставалось понять, что в действительности я смогу делать на «Телетайпе».
Меня пригласили в заводское управление на собеседование. И вскоре направили в диспетчерскую, где находилась заводская телефонная станция. Для того чтобы стоять восемь часов в цеху, я пока явно не годилась. Еще не понимая, что мне предстоит делать, я, в сопровождении кого-то из управленцев, отправилась знакомиться с предстоящей работой.
Диспетчерская представляла собой помещение с глухими, изолированными от внешнего шума стенами и одним окном.
Входная дверь имела строгую надпись: «Посторонним вход воспрещен!» Мы, тем не менее, вошли внутрь, и я увидела очень длинное, похожее на стол, сооружение, на котором стоял пульт управления телефонной связью. Множество крошечных лампочек с гнездами под ними окружали длинные провода с клеммами. За столом на вертящемся стуле сидел диспетчер. Другой наготове стоял с ним рядом.
Лампочки то загорались, то гасли, откуда-то из эфира слышались голоса. Попеременно говорили невидимые абоненты и диспетчер. Он принимал сообщения или соединял абонентов. Переговаривались между собой начальники цехов, инженеры, иногда вступал в разговор кто-то из заводского начальства. Диспетчеры работали посменно, по двое, и я, очевидно, появилась как раз в тот момент, когда у ночной смены не было пары.
На мое обучение ушло несколько дней, за которые ко мне привыкли не только диспетчеры, но и абоненты нашей станции. Мой голос неожиданно оказался подходящим для работы телефонистки. Скоро почти все, кто звонил на диспетчерский пункт, стали обращаться ко мне особенно вежливо, иногда даже ласково. Кто-то, по привычке к старинным телефонным аппаратам, называл барышней, кто-то просто девушкой, часто добавляли к этим словам: «Миленькая, дорогая, соедини скорее, пожалуйста!» Диспетчеры относились ко мне дружески и шутили, что приятный голос – это все, что осталось от меня после голодания в Ленинграде.
Жизнь налаживалась. И, главное, мне очень нравилась моя работа. Я чувствовала себя чуть ли не в самом центре заводских проблем. В невидимом пространстве шла и кружилась заводская жизнь со всеми ее сложностями, бедами и радостями, вечной борьбой за сроки выполнения военных заданий особой важности. Аппараты, которые делались на заводе, постоянно требовались армии.
Своих абонентов я не видела, но постоянно ощущала их симпатию и даже некоторый интерес ко мне. Мысленно, по голосам, я постепенно составила в воображении их портреты. Они тоже, может быть, представляли себе иную обладательницу голоса: скорее всего – высокую, красивую, даже дородную девицу. И, конечно, были бы разочарованы, если бы увидели за пультом маленькую, исхудавшую, недавнюю школьницу. Но дверь со строгой надписью исключала визуальное общение. А в заглазном разговоре был какой-то веселый элемент игры. Так что на дежурство не только днем, но и в ночную смену, я бежала с удовольствием.
Завод стоял в некотором отдалении от других построек Втузгородка. Эта восточная окраина города, окруженная поясом сосновых лесов, застраивалась в 1930-х годах почти одновременно с возведением солидного здания Уральского индустриального института (позднее названного Уральским политехническим) и Уральского филиала Академии наук СССР. Несколько тропинок шли через сосновый лес к стандартным двухэтажным домикам, где еще до войны поселились инженерно-технические работники, преподаватели и ученые.
На подробной карте Свердловска в Интернете, помеченной 1940-м годом, я легко нашла и ровные прямые улочки между жилыми домиками с покатыми крышами, и довольно раскидистый лесной массив. А в моей памяти остались удивительные ночи в этом лесу, через который лежала дорога от завода к дому. Я шла тогда на работу и с работы по широкой тропке среди высоких уральских сосен.
Где-то, скорее всего не очень далеко, находился хлебозавод. Он работал всю ночь, потому что хлеб доставляли в магазины рано утром. Густой, волнующий запах горячего хлеба, казалось, наполнял весь молчаливый ночной лес, и легкий ветерок далеко разносил по окрестности сладостный для меня аромат.
Эта дорога, с запахом, напоминающим домашний дух каравая из русской печи, казалась особенно уютной. Ночная смена на заводе кончалась в половине третьего, к трем часам в лесу не было ни души. Редкие фонари слабо светили на тропку, но идти было совсем не страшно. Все самое страшное осталось там, в засыпанном снегом, погруженном в темноту Ленинграде.
Пришло время, и я получила первое письмо из Емуртлы. Мама писала мне, что они с Надей сняли комнатку в деревенской избе и забрали Оленьку к себе. Живут неплохо. Со свойственным ей романтизмом она описывала деревню, крестьян, у которых меняла остатки ленинградских носильных вещей на молоко, творог со сметаной, картошку и овощи. С юмором рассказывала об одной деревенской старушке, которая спросила ее однажды, не знает ли она, кто такие «явреи», что, говорят, понаехали в Сибирь?
Мама ничего не писала ни об их с Надей долгой дороге в Емуртлу, ни о том нелегком пути, который проделали до них дети с воспитателями, пока добрались до села. Некоторые подробности этого путешествия сохранились в памяти Оли, хотя она была в это время слишком мала, чтобы понять все опасности и трудности поездки.
* * *
Вот что происходило на самом деле. Поздней осенью, почти в начале зимы 1941 года, руководство интерната Ленинградского Союза архитекторов получило указание вывезти детей из Ярославской области.
Можно теперь только догадываться, какие поистине титанические усилия потребовались от директора и воспитателей, чтобы получить для детей теплушки и договориться с начальством железной дороги о том, чтобы присоединить их к одному из идущих в Сибирь эшелонов.
Но добились необходимого. Более того: в дорогу интернату с детским садом выдали сухой паек – много круглых головок сыра и хлеб. Кипяток, как все, брали на станциях.
Несмотря на то, что в каждой теплушке топилась печка-буржуйка, спать детям было холодно. В щели между старыми досками вагонов сильно дуло, по утрам в изголовье нижних нар появлялась изморозь. Дети начали болеть от охлаждения, от недоедания и сухой пищи. Оба сопровождающих интернат и детский сад доктора – Юлия Абрамовна Троцкая и доктор Баткин – как могли, оберегали детей. Но не все было в их силах.
Более чем примитивная гигиена в эшелонах отнюдь не способствовала детскому здоровью. Заболела и Оленька. Температура подскочила до сорока градусов. Доктора поставили диагноз: воспаление лобных пазух, плюс к тому – острое кишечное расстройство.
Директор интерната Федосья Ивановна Талипоровская считала, что нужно передать девочку в больницу на одной из ближайших станций. Собрали Совет воспитателей. Многие из них сомневались в благоприятном исходе такого мероприятия. Какая-нибудь районная больница, возможно, гарантировала бы лечение ребенка, но кто мог после выздоровления забрать его и позаботиться о том, чтобы доставить обратно в интернат?
С Ленинградом никакой связи не было. Уже доходили до эшелона слухи о том, что в военных передрягах и переездах эвакуированных детских учреждений немало детей потерялось на долгих дорогах войны…
Решение взяла на себя жена архитектора Гринберга – Ольга Львовна, которая хорошо знала Надю. Она ехала с двумя дочерьми там же, где Оленька. На свою ответственность эта добрая женщина предложила оставить больную девочку в эшелоне. Ей назначили лечение лекарствами из интернатской аптечки, подняли на верхние нары, положили рядом с Ольгой Львовной, и в самый тяжелый период болезни она держала ее на руках. Девочка постепенно выздоровела.
Тем временем эшелон двигался медленно, как все эшелоны, которые везли людей отовсюду, где шла война. Сыр постепенно высох и затвердел, как камень, хлеб превратился в сухари. Другой пищи при всем желании достать в дороге не представлялось возможным.
Наконец, и этот эшелон добрался до Свердловска. Только там, в этом главном распределителе поездов и людей по разным маршрутам, детям принесли в вагон ведро горячей гречневой каши-размазни. Чуть ли не первый раз за долгое время пути маленькие путешественники наелись досыта. Здесь, пока все эшелоны стояли долго и переформировывались, сопровождающим удалось еще пополнить запасы еды. Впереди ждал немалый путь по Свердловской железной дороге в направлении к Тюмени.
Емуртла находилась примерно на границе Омской и Тюменской областей. Она становилась все ближе, но никто из воспитателей не представлял себе, что кроется за этим таинственным названием. У них были все основания опасаться, что дети попадут в страшную глухомань. Между тем, надо было организовать не только жизнь малышей, но и учебу старших.
У большинства воспитателей, вполне естественно, существовало самое общее представление о глухих сибирских местах, где издавна в селах и деревнях жили ссыльные. Неизвестная никому Емуртла вполне могла оказаться одним из таких недобрых мест.
Я с трудом нашла в Интернете отрывочные сведения о старом, основанном чуть ли не в XVII веке, селе Емуртла, расположенном на левом берегу реки с тем же названием. Недалеко протекал более знаменитый Тобол, и действительно находился в то далекое время Енисейский острог, центр русской колонизации Сибири. В переписной книге Тобольского уезда в XVIII веке уже упоминается Емуртлинская слобода.
В Емуртлинском форпосте сибирских драгун
Были церковь, острог и казенный амбар –
Петербург ведь и здесь свою линию гнул,
Кнут и здесь погулял по крестьянским горбам.
– напишет уже в 70-х годах ХХ века молодой поэт Владимир Британишский. Он в сороковых вместе с группой старших детей из интерната Архитектурного фонда кочевал по всем дорогам, что пришлось им проехать.
К счастью, ко времени прибытия ленинградских детей ничего не осталось от давнего прошлого. Не омрачалась округа и судьбами спецпереселенцев эпохи коллективизации. Все мрачные места ссылок находились гораздо дальше, в Восточной Сибири.
Автор стихов о старой Емуртлинской слободе Володя Британишский был сыном ленинградских художников. Ленинградский Художественный фонд организовал отправку детей художников в Емуртлу раньше Архитектурного фонда. И Володя до 1944 года учился в Емуртлинской школе вместе с детьми из интерната архитекторов.
Современное село Емуртла в 1932 году вошло в административный Упоровский район Тюменской области с довольно пестрым составом населения. Здесь, кроме русских, жили немцы, украинцы и татары. Вокруг расположились небольшие деревни. Там жили сытно, занимались сельским хозяйством. Огромные охотничьи угодья в лесах тоже приносили доход. Долгие снежные зимы хранили крестьянский уют и замедленный ход жизни.
Такую вот зимнюю картинку опоэтизировал десятилетний мальчик Британишский в 1943 году:
Огоньки уже горят
всюду в Емуртле.
Догорел вдали закат
в серо-синей мгле.
Стало тихо в Емуртле.
Снег идет слегка.
И сквозь снег, видны во мгле
крылья ветряка.
Емуртла, январь 1943
Дети архитекторов добрались до Емуртлы в январе 1942 года. Оленьку к тому времени перевели из интерната в детский сад, где условия жизни были более щадящими. Но и это не гарантировало ей здоровья. Хрупкий организм был подорван трудным переездом, плохим питанием и долгой детской тоской по родителям.
Мама с Надей приехали в Емуртлу примерно в конце марта. Оленьку они нашли в изоляторе. Она снова слегла. На этот раз это было очень опасное заболевание – так называемая болезнь Боткина, то есть инфекционная желтуха. Наша мама сама взялась за лечение внучки. Многолетний врачебный опыт так же, как, наконец, обретенный покой, помогли спасти девочку.
* * *
Я прекрасно понимала, что о настоящих сложностях деревенской жизни мама мне не пишет. Лиля, прочитав мамино письмо, сразу сказала, что надо попросить Авидона (так она полушутливо-полуласково называла отчима) послать всей семье вызов в Свердловск. Александр Борисович сумел это сделать довольно быстро. И уже вскоре я встречала своих сибиряков. Однако радость встречи была омрачена совершенно неожиданным для всех нас обстоятельством. Перед самым отъездом из Емуртлы мама с Надей получили телеграмму с таким текстом:
«Наденька, Эллонька, помогите, приезжайте. Папа».
В адресе отправителя кратко значилось: «Монетная Свердловской. Больница».
Эти слова на все лады вертелись в голове. Телеграмма значила лишь одно: в то время как я провожала Надю с мамой в Емуртлу и осталась в Свердловске, он уже закончил свой путь на Восток. Значит эшелон, где он ехал, пришел в Свердловск раньше, чем наш.
Дальнейшие подробности происшедшего я узнала гораздо позже. Но главное можно было предположить. Очевидно, после санитарного осмотра папу вместе с другими слишком ослабленными ленинградцами врачи сняли с поезда и отправили в больницу для дистрофиков на станции Монетной.
И я жила в городе, не зная, что в нескольких часах езды от меня на больничной койке умирает папа.
Возможно, специалистам по топонимике известно происхождение названия этой небольшой уральской станции. Но мне, во всяком случае, казалось, что оно как-то связано с изготовлением денег. Тогда, разумеется, исторические подробности отступили на второй план. Позже я узнала, что уже через три года после основания Екатеринбурга здесь началась чеканка медных монет. С 1735 года Екатеринбургский монетный двор производил 80% всей медной монеты в России. В семидесятых годах XIX века он был закрыт, а название, свидетельствующее о прошлом заведении, осталось только у станции. На карте железных дорог, окружающих Свердловск, она находится в нескольких часах езды от города.
С тяжелыми мыслями и с большой тревогой на душе я помчалась на вокзал, чтобы узнать, как добраться до станции Монетной. Надя теперь взяла на себя все непростые хлопоты по устройству с жильем и питанием в Свердловске. Они с мамой и Оленькой получили необходимые документы, талоны в столовую и место в общежитии для ленинградцев, под которое было отведено бывшее здание то ли учреждения, то ли школы.
В просторных комнатах, перегороженных какими-то широкими белыми занавесями, рядами стояли кровати. Несколько хлипких столиков дополняли интерьер. Добираться на верхний этаж, где нашей семье отвели уголок, приходилось по единственной крутой, очень грязной каменной лестнице, которую никто не убирал. Но все неудобства казались не такими уж страшными по сравнению с мыслями о том, что с папой.
На заводе сразу вошли в мое положение и отпустили на целый день. Поезд уходил из Свердловска поздно вечером и приходил на станцию Монетную в четыре часа утра. В дороге выяснилось, что больницу хорошо знали и проводник, и кое-кто из попутчиков. Мне сразу рассказали, как до нее добраться.
Серый дом, похожий на типовое здание школы, не был освещен. Я постучала в единственную входную дверь. Сонная пожилая женщина-вахтер выглянула в окно и открыла мне. Я сказала, что ищу отца и не знаю, жив ли он.
Старушка не удивилась, поглядела на меня сочувственно и разрешила посидеть в раздевалке, около вешалок для пальто. Она посоветовала, пока не придет медперсонал, прилечь тут же на стульях и подремать. Однако мне было так неспокойно, что задремать я не могла, а сидела и считала минуты до того момента, пока меня пустят в больничные палаты. Кроме меня, никто, похоже, не приходил в такую рань навещать родственников. А мне еще надо было успеть вернуться в город.
Наконец, входная дверь стала часто открываться. Приходили врачи и медсестры, близилось начало рабочего дня. Неожиданно ко мне подошла девушка в белом халате и косынке. Старушка, очевидно, уже объяснила ей, кто я и кого ищу. Девушка сочувственно поглядела на меня и молча повела на верхний этаж. Еще одно чудо военной почты свершилось: телеграмма пришла в Емуртлу вовремя: я застала папу в живых.
Я скорее угадала, что это он, когда милая девушка подвела меня к открытой двери в палату. Он лежал близко к двери, на спине, укрытый до подбородка одеялом. Я вошла и наклонилась к нему, но на небритом лице ничего не дрогнуло. Руки бессильно лежали поверх одеяла вдоль туловища.
Началось наше очень странное и мучительное свидание. Папа уже понял, что к нему пришла я, но не мог поднять головы. Мне показалось, что он совсем не выразил удивления, как если бы точно знал, что его крик о помощи дойдет до нас с Надей.
Судя по всему, он долго находился в полузабытье и не замечал, сколько времени прошло с отправки телеграммы. Безусловно, он понимал всю тяжесть своего положения. Но я успела заметить, как в слабой телесной оболочке росло могучее, почти безумное желание: выжить! Он даже не выразил радости оттого, что я появилась. Все его мысли сводились только к этому желанию.
«Знаешь, – сказал он мне шепотом, – санитары приходили с сантиметром, измеряли меня, понимаешь? Но я им не дамся, я буду жить! Ты мне только привези крепкий бульон и кусочек куриного мяса. Обещай, что сделаешь это!»
Разумеется, я обещала, хотя еще понятия не имела, каким образом раздобуду такую драгоценность. Ведь речь шла о жизни и смерти, и, главное, надо было торопиться. Раздобыть мифическую курицу, сварить ее и вернуться в больницу хотя бы на следующий день.
И снова Лиля со всей ее фантастической энергией взялась за дело. Не раз ей пришлось где-то добывать парную курицу, чтобы мама успела ее сварить. Бульон, который я привезла в больницу, вызвал у папы первую улыбку. «Я знал! – сказал он то ли мне, то ли своему соседу по палате. – Теперь я буду жить! И ты увидишь, я скоро встану с постели».
На заводе меня перевели в дневную смену. Я могла вечером ездить в больницу с едой для папы и наутро возвращаться на работу. Так мы все вместе боролись за его жизнь. Иногда маме удавалось добавить к драгоценному рациону что-то еще, хотя они втроем с Надей и больной Оленькой еще не устроились основательно.
В Свердловске им стало спокойнее, здесь были врачи, более привычные, хоть и трудные городские условия. Правда, тут мама с Надей и даже Оленька столкнулись с неприязнью местных жителей к эвакуированным ленинградцам. Город и без блокадников оказался сильно перенаселен приезжими из больших городов: рабочими заводов, служащими разных учреждений и их семьями. Квартир катастрофически не хватало. Чтобы всех расселить, местные власти использовали различные административные помещения и общежития. Маме, с ее ослабленным сердцем, особенно трудно было подниматься на последний этаж их общежития. У нее еще перед войной, после возвращения из Хабаровска, стало сдавать сердце. Но с обычным ее терпением и мужеством мама преодолевала и это неизбежное испытание.
Пришло время, когда она смогла поехать вместе со мной в больницу навестить папу. Он уже заметно поправился, понемногу набирал вес, взбодрился. Мама встретилась с его лечащим врачом. Доктор поговорил с ней, внимательно на нее поглядел и предложил пройти курс лечения в том же стационаре, где лечился папа.
После лечения из больницы они уезжали вместе. У них было достаточно времени, чтобы восстановить не только силы, но и разорванную семейную связь. Открывалась новая страничка их совместной жизни. После множества непосильных тягот, которые успел понести каждый из нас, мы снова все соединились.
* * *
О папином воскрешении из мертвых в больнице говорили еще долго и ставили в пример вновь поступавшим больным. А папа, едва оправившись, первым делом задумался о том, как поскорее выбраться из общежития. Он был верен себе: по его понятиям у семьи должен быть дом, а не общежитие.
В центре города, перенаселенном чужаками, все чаще возникали естественные неудобства. Приезжим часто приходилось слышать упреки старожилов, нелицеприятные намеки на то, что приехали дармоеды, не желающие работать.
Работать, действительно, могли не все. Ленинградцы, истощенные дистрофией, с трудом выдерживали стояние в очередях. На них, исхудавших, жадных до еды, смотрели, как на диковинку. В общественных местах, в магазинах и столовых раздавались в их адрес бестактные вопросы или грубые замечания.
В городе было многолюдно и шумно, транспорт не справлялся с наплывом пассажиров, водители и кондукторы особенно раздражались, глядя на слабых, истощенных и неповоротливых блокадников. Иногда дело доходило до оскорблений. Но нужно было терпеть и приспосабливаться к жизни в этих условиях.
На какое-то время папе удалось снять в центре города комнату с прихожей в частном доме. Комнатка была маленькая, родители ютились на хозяйской кровати, а Надя с Оленькой спали на сундуке в прихожей. Это было неудобно, и папа решил снять недорогую квартиру где-нибудь на тихой окраине. Он уже думал о том, как найти работу. Надя мечтала о том же и искала какую-нибудь архитектурную организацию. Мама пока не думала о службе: надо было заботиться об Оленьке, о ее устройстве в школу, о том, как наладить жизнь, когда удастся снять квартиру.
Я в это время еще не жила вместе с семьей, оставалась во Втузгородке. Но ближе к весне мы с Лилей поинтересовались возможностью поступить в институт, близкий к заводу и к Втузгородку – то есть, Уральский индустриальный.
Как только там начала работать приемная комиссия, я выяснила, что среди многих чисто технических факультетов в институте есть еще и архитектурный. Там все-таки преподавали историю искусства и рисование, не только технические дисциплины. На этот факультет и решено было подать заявление.
Мое заявление приняли и даже предложили место в общежитии, так что я могла освободить семью Лили от своего затянувшегося присутствия. Пришло время расстаться с заводом и с милыми диспетчерами.
* * *
В приемной комиссии работала совсем молоденькая девушка с огромными черными глазами. Узнав, что я из Ленинграда, она прониклась ко мне симпатией и очень деликатно предложила свою дружбу. Ее звали Ниной Беус, она сразу сказала, что родилась в Москве и в Свердловск попала только несколько лет назад.
Нина тоже подала заявление на архитектурный, потому что узнала, что там будет интересный курс истории архитектуры и изобразительного искусства. Мы быстро нашли общий язык, хотя и не успели еще как следует сблизиться. Вскоре будущих первокурсников – и нас в том числе – отправили работать в колхоз. Студенческие отряды помогали тогда колхозам, заменяя мужчин, ушедших из деревень на фронт.
Колхоз, над которым взял такое шефство Уральский индустриальный институт, находился в окрестностях города Красноуфимска, сравнительно недалеко от Свердловска.
Места эти когда-то были ареной больших крестьянских волнений. В своей «Истории Пугачева» Пушкин, досконально изучивший эти события, не случайно упоминает Красноуфимск рядом с Екатеринбургом. Пугачев двинулся со своими повстанцами на Екатеринбург, но узнал, что там его поджидают царские войска, и повернул на Красноуфимск.
Пушкин пишет его через дефис: «Красно-Уфимск». Город этот, в 1736 году, подобно Екатеринбургу, создавался как крепость. Она стояла в урочище Красный яр и защищала уральские заводы от набегов смутных башкирцев. Уездным городом стал Красноуфимск позже, в 80-х годах XVIII века. С тех пор он стоит на высоком берегу реки Уфы, на юго-западе Екатеринбургской области, в 224 километрах от Екатеринбурга.
Сюда в годы Второй мировой войны тоже влился большой поток эвакуированных предприятий и людей. За год, прошедший с начала военных действий на западных территориях СССР, Красноуфимск разместил у себя несколько заводов и 15 тысяч эвакуированных граждан.
Так же, как в Свердловске, здесь стояли военные госпитали, формировались и уходили на фронт кадровые дивизии. Тысячи местных жителей тоже ушли воевать.
Красивый вокзал, построенный по проекту знаменитого архитектора Щусева в традициях и стиле петровской архитектуры, и большое паровозное депо работали в Красноуфимске с невиданной прежде нагрузкой.
Мы приехали в город июльским утром из Свердловска. Нас было человек 30 новоиспеченных студентов, точнее – студенток. В осеннем наборе 1942 года юношей не было.
На секунду в моем воображении вспыхнуло воспоминание об июле 1941-го и наших студенческих работах под Новгородом. Теперь все было другим: и удобный пассажирский поезд, которым мы приехали, и красивый стильный вокзал, и более мирное, тыловое настроение. Нас встретил кто-то из областного комитета партии.
На привокзальной площади стояла любимая народом полуторка. Мы погрузились в кузов и помчались по холмистой дороге среди полей и лесов. На строгом географическом языке такой ландшафт называется «лесостепь», но очень скоро я поняла, что это определение не вмещает в себя и десятой доли той поистине удивительной природной красоты, среди которой нам вскоре довелось прожить два необыкновенных месяца.
Колхоз, где предстояло работать, находился в сорока километрах от Красноуфимска. Грузовичок проскочил это расстояние часа за полтора, и вот показались хозяйственные постройки, широкая деревенская улица с ладными избами, дворами, сараями, баньками.
Шофер сдал нас с рук на руки какому-то невысокому, прихрамывающему человеку (он ходил, опираясь на палку) – и умчался обратно в город. А тот приветливо поздоровался и отрекомендовался председателем колхоза. Сказал только, что все мужское население деревни ушло на фронт, и даже из конного хозяйства осталась одна рабочая лошадка, всех остальных колхозных коней, как он, улыбаясь, выразился – тоже отдали в солдаты.
Началась веселая суматоха с поисками мест для постоя. Кто парами, а кто и по трое, быстро разбежались по избам. Хозяйки с раннего утра работали в поле, но все крестьянские семьи были предупреждены о приезде студентов, и где бабушки, где детишки – охотно принимали постояльцев.
Когда мы с Ниной опомнились от первых впечатлений и тоже пошли на поиски жилья – оказалось, что все дома в центре деревни уже заняты более энергичными девицами.
Председатель, увидев наши растерянные лица, пожурил за нерасторопность и с некоторой долей смущения предложил отвести к одной старушке, которую, как он сказал, бабы не очень жалуют добрым словом, и даже иногда кличут ведьмой. Но старушка на самом деле женщина неплохая, хорошо знает лечебные травы, и сын у нее, как известно из писем, воюет хорошо.
Я уже с сожалением писала о том, что имена людей, которые мне встречались на дорогах войны, почему-то быстрее всего вылетают из памяти. Все-таки речь идет о расстоянии больше полувека. Я не помню, как звали доброго к нам председателя колхоза и что особенно жаль – нашу старушку, у которой мы с Ниной прожили это деревенское лето. Изба ее – небольшая, но аккуратная, стояла на краю деревни, за ней начинались травянистые откосы, а еще дальше лесок. Местоположение на удивление красивое.
Сын нашей хозяйки перед мобилизацией позаботился о порядке в доме. Все было налажено, починено, сработано умелыми руками. Спали мы на широких деревянных полатях, гладко оструганных и покрытых лаком, ели за чистым столом, а весь день проводили в поле.
Мы застали все богатство уральского сельского края в цвету: второй покос прошел, и сочные головки клевера еще просвечивали малиновыми пятнышками сквозь скошенные зеленые травы.
Рожь и пшеница еще колосились, поля гречихи цвели с тем особенно-нежным сиренево-розовым переливом, который горожанин не видит, потому, что эти краски навсегда умирают в темно-коричневых коробочках крупы.
Мы видели, как цветет и отцветает лен, густится конопля, а васильки, которые в городе продают в виде нежных букетов, тяжело засоряют ржаные посевы. И все это живет в окружении лесистых гор, изобилующих, сочными растениями. Огромными колокольчиками, ромашками величиной с блюдца, лесными орхидеями и другими цветами, неизвестными жителю Севера или Средней России.
Взойдет ранним утром солнце, потом проплывут по ярко-голубому небу редкие барашки облаков. Застынут их белые колечки над горами и степью, и редко прошумит короткий сильный дождь.
Где-то там, далеко течет полноводная река Уфа. Где-то вокруг раскинуты большие и малые озера с водоплавающей птицей, они приносят влагу всему краю. Но ни до реки, ни до них пешком не дойти.
А о лесах тут говорят величаво, называют их, как в сказках, Дубравами. Ценнейшие породы дуба и липовые рощи, могучие клены – вот исконные зеленые насельники этих мест.
Надо ли было удивляться, что в быту и труде крестьян нашей деревни тоже крепко укоренилась патриархальность, согласная с первозданной природной красотой. Война ли была тому причиной, и трудности с техникой, или единственная лошадка, на которой и сено возили, и жатку единственную, чтобы гречиху убрать, привычные ко всему женщины спокойно жали рожь и пшеницу серпом, а лен и коноплю дергали руками. И всем этим искусствам обучали нас, помогали даже выполнять колхозную норму.
Поскольку река от нас была далеко, хозяйка часто топила нам свою баньку – маленькую избушку на задах огорода. Топилась она «по-черному». В такой баньке без трубы, с крошечным окошком и закопченными стенами, мыться надо с умом, правильно пользуясь камешками, которые греют воду, и парилкой.
Вовремя надо сначала открыть, а потом закрыть дверь в баньку, закрыть вьюшку, вытереть сажу перед тем, как мыться. Первый раз в такой бане Нина, никогда не жившая в деревне, с испугу и от сильного жара грохнулась в обморок, и я с трудом привела ее в чувство.
Потом все ей нравилось. А в наших разговорах, на отдыхе после мытья, я узнала много интересного и страшного из того, что пришлось испытать ей и ее московской семье.
Отец Нины работал в Кремле, и был одно время очень близок к верхам и лично к Сталину. Но в недобрый час его, как многих близких к вождю людей, Хозяин велел расстрелять без суда и следствия. Нинина мать стала женой врага народа, и ее арестовали. Она тоже погибла. Маленькую Нину ждал специальный детский дом. Но сестра ее матери, не убоявшись преследования НКВД, выкрала девочку еще до того, как квартиру ее несчастных родителей опечатали, и ночью увезла в Свердловск.
Эта мужественная Галечка, как называла ее Нина, вырастила ее, стала ей второй матерью, а Свердловск – местом жительства для обеих. Вечерами мы с Ниной забирались на полати, и она рассказывала массу интересных историй о своей жизни с высокопоставленными родителями.
Для меня это были сказки Шахерезады. Я понятия не имела о том, как богато и беспечно жили некоторые семьи коммунистов в Кремле и около него.
Наступал конец августа. Почти все поля мы вместе с нашими добрыми хозяйками убрали. Лен и коноплю выдергали. Наши руки огрубели, пальцы опухли, ноги почти не чувствовали уколов стерни. А городская обувь давно сносилась.
Труднее и опаснее всего, оказалось, жать серпом. Кроме силы тут требовалась ловкость и сноровка. Пройдешь вместе с умелой крестьянкой ряд, и спину заломит так, что надо немного полежать. Совсем другое дело – ставить маленькие снопики гречихи. Это настоящее удовольствие.
Не то – тяжелый хлебный сноп. Такие стояли длиной выше наших голов, и молотилка работала с раннего утра до позднего вечера. Тут надо было работать в платках и беречь глаза от пыли и лузги.
Наконец, председатель, который постоянно подбадривал нас и всячески помогал, стал подсчитывать заработанные трудодни. О деньгах, разумеется, речи не было, нам платили натуральным продуктом.
Не так мы – ленинградские студенты – покидали год назад свой трудовой фронт под Новгородом. Здесь мы воочию видели важность и пользу своего труда. Колхоз расплатился с нами сполна, хотя каждый получил только то, что заработал.
Мне отсыпали в прочный деревенский мешок 36 килограммов (больше двух пудов!) чистого пшеничного зерна. Выдали бутылку душистого льняного масла. Чистую пару своего нательного бельишка я обменяла на мешок репчатого лука и банку липового меда в придачу.
Тяжелый куль с пшеницей увязали по-крестьянски, как заплечный. А рюкзак, с которым я приехала в колхоз, тоже набили до отказа. Нам еще предстояло довезти до Свердловска заработанное и добытое на обмен добро.
Полуторка, на которой мы приехали в июле, теперь возила урожай, это было важнее, чем возить студентов. Председателю нашему в Обкоме партии сказали просто: пешком до Красноуфимска дойдут, а там поезд повезет! И он, вернувшись на своей лошаденке из города, стал держать совет с женщинами.
Решили, что сорок километров нам в нашей городской, сильно стоптанной обуви, не пройти. И предложили денек-другой отдохнуть, пока крестьянки сплетут нам лапти.
Чтобы описать, как происходила примерка лаптей и онуч, в которые каждой из нас по всем правилам обернули ноги перед дорогой, мне не достает литературного дара. Многие женщины плакали, когда пришло время проводов.
На подводу погрузили мешки, на них крупно чернильным карандашом написали наши имена. Председатель повел лошадь, и мы двинулись в путь. У каждой из нас в небольшом мешочке лежали деревенские шанежки или вареная картошка с зеленым луком и огурцом, а на подводе еще помещался бачок с молоком.
Путь предстоял долгий, с ночевкой, и председатель наш вообще опасался, все ли смогут его одолеть.
Но все одолели. С дневными привалами в местах дивной красоты. С ночевкой в каком-то пустом овине на краю маленькой деревеньки. К рассвету второго дня мы поднялись на высокий холм, с которого в далях, еще окутанных утренней дымкой, виднелся Красноуфимск.
За другим холмом слева от нас вставал огромный оранжевый диск солнца. Этот медленный спуск с холма и этот волшебный восход были последним, почти фантастическим видением уходящего лета.
К полудню мы выгрузились в Свердловске и, как когда-то на Витебском вокзале, разбежались по домам.
Но разбежались – это, пожалуй, слишком сильно сказано. Не больно-то разбежишься с двухпудовым мешком на спине и тяжелым рюкзаком в руках. Забраться с такой ношей в переполненный трамвайный вагон совсем не просто.
* * *
Улицы Свердловска жили своей обычной жизнью. Всюду толпился народ, тренькали трамваи, гудели автомобили. С немалым трудом, с остановками, я добиралась до дома, где жили родители и Надя с Оленькой.
Как раз в тот момент, когда я входила во двор, из дверей на улицу выходила мама. Она недоверчиво взглянула на меня, увидела мои ноги в лаптях, и, как будто не поверила сначала, что это я, а потом крепко обхватила меня руками и тихо заплакала.
Милая мама, она вообще редко плакала, и всегда тихо. Мы молча постояли немного и поднялись на второй этаж. Папы не было дома, он теперь работал в Управлении Челябметаллургстроя. Оленька до сих пор вспоминает большое серое здание Дома промышленности в центре Свердловска, куда она иногда заходила к дедушке.
Вскоре после моего возвращения и не слишком долгих поисков папа присмотрел недорогую квартирку на ВИЗе, старинном рабочем поселке на западной окраине Свердловска. Горожане сокращенно называли его так по имени Верх-Исетского завода – большого металлургического предприятия, построенного вскоре после основания Екатеринбурга. Район этот поначалу в состав города не входил.
Нужды металлургического производства требовали много воды, и поэтому реку Исеть в районе завода перегородили плотиной. Так образовался большой и полноводный Верх-Исетский пруд, и по сегодняшний день – украшение всей округи.
Постепенно поселок разросся и к началу 1940-х годов представлял собой довольно большой район с сетью аккуратных, хоть и не замощенных улочек с деревянными или глинобитными домами, где городской трамвай делал последнюю остановку «Кольцо», подобно «Кругу» у ленинградской Средней Рогатки.
Теперь в Верх-Исетский район входят уже пять микрорайонов, здесь давно строят современные многоквартирные дома, асфальтируют улицы. В районе есть свой спортивный комплекс, кинотеатр и концертный зал, школы и даже медицинская академия.
А когда мы поселились на ВИЗе, на траве, привязанные за колышки, топтались козы, у некоторых хозяев были небольшие огороды, имелись коровы и другая живность. Воду носили из водопроводных колонок, на коромыслах, как в деревне.
Наша квартира представляла собой одну довольно просторную общую комнату в старом полуразвалившемся домике и маленькую спальню. В еще одной, тоже маленькой комнатушке, жила хозяйка, худенькая старушка Елизавета Ивановна.
Помню ее грустное морщинистое личико, светлые глаза с отечными веками и жидкий узелок седых волос высоко на затылке. Она производила впечатление человека, о котором говорили: «из бывших». Говорила с едва уловимым смешанным акцентом, иногда бормотала про себя какие-то немецкие слова и поговорки, отчего мы между собой, симпатизируя какому-то неизвестному прошлому, называли ее «Элизабэт». Чем-то она напоминала персонаж (фрау Мюкке?) из книжки Вильгельма Буша об озорниках Максе и Морице.
Домик стоял в палисаднике, за плотным забором. Хозяйка жила на очень малые средства. Хозяйство было запущено, пол в большой комнате прогнил, и папа прежде всего взялся за его починку. С большим трудом это удалось. Большая печь – источник тепла и верная кормилица – топилась исправно. Дрова стоили дорого, их покупку мы взяли на себя. Летом дрова экономили, готовили на керосинке.
Для нас это была трудная, но спокойная жизнь. Мы делились с одинокой женщиной, чем могли, и чем могли – помогали. Все, что я привезла из колхоза, надолго увеличило наш скудный рацион, ограниченный продовольственными карточками. Из цельной пшеницы мама каждое утро варила кашу, совсем не думая о том, как это принято теперь, в пору повального увлечения диетами, сколько в ней полезных витаминов и минеральных веществ.
Мы заметно поправляли свое расшатанное здоровье. Елизавета Ивановна питалась вместе с нами.
Я этого не помню, но Оленька рассказывала мне, что немалая часть колхозного лука пошла тогда на мое лечение от фурункулёза. Мама пекла лук на сковороде, и по старому народному способу прибинтовывала к нарывам, поскольку никаких других лекарств не было.
Я вносила в семейный бюджет еще одну ценную долю. За бутылку свежего молока давала уроки русского языка соседской девочке – школьнице третьего класса.
Оленькины воспоминания о школе на ВИЗе не отличаются радостными красками. Школьные часы, когда взрослых не было дома, она, прячась от всех, простаивала в палисаднике за забором. В школе ее, эвакуированную, дразнили и всячески обижали. Семья не знала ни об этих обидах, ни о том, как она проводит время, потому что все с раннего утра уходили из дома.
Теперь Надя работала в архитектурной мастерской, и мама тоже нашла любимую работу. Ее, как специалиста по челюстно-лицевой хирургии, пригласили работать в специализированный госпиталь. Это была необыкновенная удача.
Я нашла в Интернете список всех военных госпиталей, действовавших в Свердловске в годы войны, и среди них – только один челюстно-лицевой эвакогоспиталь № 1710 на Нагорной улице, дом 12 – именно тот, где работала мама.
В свободную минуту мы все, бывало, ненадолго забегали к ней. Оленька, которой было тогда уже девять лет, помнит даже, что в день, когда врач-ординатор Ганкина проверяла качество обеда для раненых (это называлось снимать пробу), добрая повариха наливала девочке тарелку вкусного супа. Я, приходя в госпиталь, любовалась мамой, ее миниатюрной фигуркой и добрым, приветливым лицом. И все, кто видел нас вдвоем, тоже улыбались нам.
Солдат кормили хорошо. Случалось, что, приходя домой, мама извлекала из кармана белого халата кем-то из них аккуратно завернутые в газетку кусочки сахара – самого дефицитного в городе продукта, или яблоко, нетронутое за обедом, чтобы тихонько отдать любимому доктору.
Ее особенно любили молоденькие солдаты, тосковавшие по дому и по своим матерям. А она относилась к ним действительно по-матерински. У нее теперь была невеселая, но редкая возможность познакомиться с самыми сложными и тяжелыми для солдат челюстно-лицевыми ранениями. Теми, о которых она так много читала и слышала от профессора Лимберга.
В реальности это были травмы, часто несовместимые с нормальной жизнью. Во многих случаях они требовали, кроме оперативного и стационарного лечения, кроме протезирования, серьезной психологической, а то и психиатрической помощи. И мама занималась этим не просто с врачебным умением, но и с присущей ей способностью внушать людям веру в хороший исход, веру в жизнь.
Весь госпиталь знал о тяжких случаях, когда ей удалось предотвратить суицид.
Дома тоже требовалась ее душевная поддержка. Надя, все больше тоскуя по пропавшему без вести Исааку, слегла в больницу с тяжелым воспалением тазобедренного сустава, и ее снова, как когда-то в Ленинграде, надо было вытягивать из депрессии. Война не давала забыть о горе.
* * *
Когда мы с Ниной Беус вернулись из колхоза в Уральский индустриальный институт, в коридорах царили шум и беспорядок. Из Ашхабада в Свердловск недавно перевезли студентов и преподавателей Московского университета. В канцелярии толпились и свердловчане, и москвичи. Из аудиторий в коридор выносили лишнюю мебель. Кто-то из шутников забрался в пустые шкафы и с хохотом располагался в них на ночлег.
Еще не всех студентов и преподавателей разместили по квартирам. Я увидела живых, веселых, страшно исхудавших московских студентов вторых и третьих курсов. Среди них были математики, физики, историки и филологи. Многие из них голодали и болели в непривычном среднеазиатском климате и мечтали вернуться домой.
Университет вывезли из Москвы в Ашхабад в октябре 1941 года – в самое трудное время, когда немцы с каждым днем приближались к московским пригородам. Но в Средней Азии жизнь оказалась для большинства студентов слишком тяжелой. Ашхабад, переполненный эвакуированными москвичами и жителями других городов, пострадавших от наступления немецких войск, не мог всех накормить и дать сносное жилье.
Слишком скуден был карточный рацион. Базары ломились от изобилия, но студентам не хватало стипендии, чтобы покупать мясо, богатые витаминами свежие плоды или сухофрукты. После немалых хлопот преподавателей в разных инстанциях решено было перевести Университет на Урал.
Снова студенческая братия погрузилась в поезд, снова он тащился по эвакуационным дорогам. К середине июля 1942 года прибыли в Свердловск. Когда все сложности с расселением и переносом в гостеприимный Уральский индустриальный институт немалого университетского хозяйства уладились, МГУ объявил дополнительный прием студентов на первый курс предстоящего учебного года.
В этот поистине судьбоносный для нас с Ниной момент мы перенесли наши документы из приемной комиссии Уральского индустриального института в Университет, и нас приняли на искусствоведческое отделение филологического факультета.
Больше всех тому, что я буду учиться в Университете, да еще столичном, радовалась мама. Она еще раньше поняла, что поступила правильно, оставив меня у Лили в Свердловске. Надя, которая считала, что на архитектурном факультете я бы не справилась с такими предметами, как сопротивление материалов и начертательная геометрия, была на маминой стороне.
Только папа весьма сдержанно отнесся к моему неожиданному шагу, считая, что искусствоведение – специальность чисто умозрительная, совершенно лишенная практического смысла. Но и он готов был меня поддержать, хотя не преминул сказать о том, что выбор в военное время такой непрактичной специальности немного легкомыслен.
Правда, одно счастливое обстоятельство помогло мне успокоить папу. В Свердловске еще раньше нас оказались наши близкие родственники: семья Шифриных. Папин двоюродный брат Ниссон и его жена Маргарита с дочерью Татой прибыли в город вместе с Центральным театром Красной армии, где дядя был главным художником. С того времени, когда он, молодой живописец, полный авангардных художественных идей, был частым гостем и учителем рисования маленькой Нади в Кривоарбатском переулке, дядя прошел долгий и непростой путь в советском искусстве.
Шифрины получили в Свердловске от театра крохотную комнатенку и рады были хоть чем-нибудь скрасить наше эвакуационное существование. Они как раз одобрительно отнеслись к моему стремлению стать искусствоведом. Молодость обоих кузенов прошла в Киеве, и дядя напомнил папе, как, окончив коммерческое училище, он решил стать не коммерсантом, а художником. Его отец тоже не верил в хорошее будущее сына, но жизнь все-таки доказала правильность его выбора.
Пока наши родители жили в центре города, дядя подкармливал Оленьку в театральной столовой. Я забегала к тетушке после занятий и погружалась в книги и альбомы по искусству, привезенные из Москвы. Кое-что в альбомах было не совсем ново для меня: я довольно хорошо знала старинную живопись в Эрмитаже. Так что тетя Мага не удивилась, когда я выбрала для курсовой работы по описанию и анализу художественных произведений «Данаю» Рембрандта.
Ясно вспоминается мне ранняя уральская зима. Институт находился далеко от центра города в хорошо мне знакомом Втузгородке. Добираться до него с ВИЗа мне приходилось на трамвае. Часть дороги шла через чистое поле. Это была езда из одного конца Свердловска в другой. Приходилось рано вставать и возвращаться в темноте.
Холодные трамваи ходили с большими перерывами, а то и вовсе не выходили на дальние линии. И тогда студенты шли пешком. Но для меня, и для тех, кто прожил зиму в Ашхабаде, это были пустяковые трудности.
Студенческое братство состояло теперь из москвичей, нескольких из эвакуированных в Свердловск ленинградцев и небольшой группки коренных свердловчан.
У приезжих жизнь была скудная, но по-студенчески веселая. Часть ребят жила в общежитии при институте, другая – в городе. У меня нашелся хороший попутчик – талантливый математик Алик Вольпин – внебрачный сын Есенина и известной переводчицы Надежды Вольпиной. Он уже успел прославиться в университете тем, что доказал какую-то хитрую математическую теорему или задачу.
Кроме занятий математикой, он сочинял печальные, символистского толка стихи. Свое родство с поэтом Алик не афишировал. Я слушала его с интересом, и, когда приходилось идти в город пешком, мы оба, не замечая погоды, легко одолевали дорогу. Так прошла зима и надвинулась весенняя сессия.
Первый курс я закончила отлично и даже получила премию: отрез коленкора. В мирное время этот материал шел на переплеты книг, а теперь из него шили одежду.
Учебный год завершился. Университет начал готовиться к отъезду в Москву.
Мой гардероб не слишком меня радовал. В Свердловске использовалось все: и поношенные платьица, и старенький спортивный костюм. Но летом в Москве все это не наденешь. И тут пригодилась премия. На швейной машинке Елизаветы Ивановны мама сшила мне из коленкора костюм: юбку и жакет. Хотя переплетный материал стоял колом, а цвет изделия (что-то среднее между коричневым и цветом беж) сильно напоминал типовую окраску стен в каком-нибудь отделении милиции, я радовалась новой одежке.
Блузки, правда, у меня не было, но и тут мама нашла выход из положения. В своей старенькой крепдешиновой блузочке она отрезала ветхие от времени рукава. Из передка и спинки получилась нарядная манишка.
Обычную сильно поношенную обувь заменили кирзовые сапожки – те самые сапоги из вещмешка Исаака, что Надя свято хранила и теперь решила отдать мне. С дополнительной стелькой и шерстяным носком они плотно сидели на ноге. В тылу такие сапожки считались редкостью и почти всегда значили некую причастность к армии, что вызывало обычно зависть местных девчат.
Вещей у меня было немного. Чемодан с зимним пальто, бельем и одеждой, и портфель, где лежали тетради с конспектами прослушанных лекций. До отъезда еще оставалось достаточно времени.
* * *
Родители, между тем, тоже готовились уезжать. Челябметаллургстрой решил командировать папу как опытного товароведа в Киргизию. Требовалось заготовить там и закупить большую партию сухофруктов: изюма, кураги, чернослива, сухих яблок и груш.
Эти особенно ценные в военное время продукты управление хотело включить в рацион питания рабочих заводов и сотрудников учреждений Челябметаллургстроя в Свердловске и Челябинске.
Ехать на заготовки приходилось надолго, на все время сбора и сушки фруктов. Поэтому папе сразу разрешили взять с собой жену и внучку. Маме не хотелось покидать госпиталь, где ее врачебный опыт был востребован. Среди врачей и среди раненых у нее уже появились друзья, с которыми жаль было расставаться. Но снова оставлять папу одного не хотелось еще больше. И хотя впереди опять ждала полная неизвестность, светилась надежда, что вместе все преодолевается легче. И даже верилось, что поездка принесет какие-то перемены к лучшему.
Путь до столицы Киргизской ССР – города Фрунзе (теперь это Бишкек) – предстоял утомительный. Сначала путешественников ожидали сибирские дороги. Потом пересадка в Новосибирске, где заново оформлялись железнодорожные билеты для среднеазиатского направления.
Фрунзе находился на севере республики, в Чуйской долине, у самых красивых предгорий Тянь-Шаня, в 25 километрах от границы с Казахстаном. За горным перевалом стояла столица Казахской ССР – город Алма-Ата.
Папу не пугали трудности передвижения по железным дорогам. В нем словно проснулась смолоду привычная тяга к новым впечатлениям. Он как всегда умело собрал вещи, необходимые для него с мамой и для Оленьки, и храбро пустился со своей маленькой семьей в дальний путь. Еще в двадцатых годах он побывал и в Семипалатинске, и в Пишпеке, и с увлечением рассказывал об этих местах. Многие детали пути ему были знакомы.
Родители надеялись, что весенние и летние месяцы на среднеазиатском юге будут более теплыми, а может быть, и более сытными, чем в Свердловске. Они мечтали передохнуть после тяжелой уральской зимы и поправить ослабленное здоровье Оленьки.
Возможно, папа знал что-то об истории и о жизни населения этих древнейших окраин России. Но для мамы многое было неизвестно и удивительно. Я, взявшись за воспоминания, только теперь узнала, как далеко вглубь столетий уходит история Киргизии.
В средние века на месте современного города Фрунзе находилось тюркское урочище Джуль. Затем разместилось Кокандское ханство. В 1825 году здесь возникла хорошо укрепленная кокандская крепость Пишпек. В 1860–1862 годах крепость взяли русские войска, а затем разрушили ее, чтобы установить здесь казачий пикет.
Еще через четыре года русские основали тут военное поселение Пишпек, которое с годами выросло в город с этим названием. Город вошел в состав царской России, и большинство населения в нем стало русским. В 1918 году здесь установилась советская власть.
Современная история города начинается с 1924 года, когда Пишпек становится центром Кара-Киргизской, а через год Киргизской автономной области. И, наконец, в 1926 году Пишпек получает имя знаменитого красного командарма Фрунзе и через десять лет становится столицей Киргизской ССР. Со временем здесь поселились украинцы, татары и узбеки.
Киргизы-кочевники, которые жили издавна в своих юртах у горных массивов Тянь-Шаня, не спешили заселять город. Зимой они кочевали в долинах, а летом – в альпийских лугах высокогорья. В Пишпеке бывшие кочевники начали понемногу оседать лишь в первые десятилетия ХХ века.
Город успел пережить гражданскую войну и репрессии 1930-х годов. Молодая республика Киргизия потеряла тогда лучших своих государственных деятелей и цвет первой киргизской интеллигенции. Но и этим мрачная деятельность НКВД в Киргизии не ограничилась.
В город Фрунзе и близлежащие поселения бдительные советские органы ссылали в 1930-х годах семьи репрессированных русских и украинцев из европейской части СССР. Рядом в киргизской глубинке по своим традиционным канонам жили и трудились киргизы. В первый год Второй мировой войны столица Киргизии, где уже к тому времени была своя промышленность, так же как Свердловск и Красноуфимск, приняла десятки эвакуированных предприятий и, соответственно, рабочих и их семей.
Позже к исконному населению Киргизии прибавятся еще и народы Кавказа и Крыма, объявленные Сталиным предателями. В январе 1944 года правительство примет секретное постановление о размещении спецпереселенцев из этих мест в Киргизии и Казахстане. Специальным указом в кратчайший срок будут депортированы чеченцы и ингуши. За ними последуют карачаевцы, черкесы и татары.
Но к этому времени папа уже закончит свою работу и увезет семью обратно в Свердловск. Мне доведется уже в начале пятидесятых годов побывать в Киргизии и Казахстане в служебной командировке, и я увижу и узнаю многое, что поможет мне понять, как провели мои родители незабываемые месяцы на киргизской земле.
Я прилетела в Киргизию с группой московских и ленинградских художников знакомиться с искусством и художественной жизнью двух республик. Нашу небольшую делегацию от секретариата Правления Союза художников СССР принимало на высшем уровне киргизское начальство. Работа начиналась во Фрунзе, откуда мы должны были поехать в Алма-Ату.
Никто из нас почти ничего не знал ни об истории Киргизии, ни об ее столице. Папины рассказы, слышанные мной в детстве, давно уже стерлись из памяти. Поэтому я с особым волнением присматривалась ко всему, что еще могло напоминать мне немногие и относительно свежие рассказы мамы. Она с удовольствием вспоминала тихие прямые улочки с саманными, чисто побеленными домиками, погруженными в летний зной, и голубые силуэты гор, замыкающих каждую такую перспективу. Рассказывала о доброжелательных киргизах, об особенной, чисто восточной медлительности и молчаливости стариков в белых национальных шапочках. На многих были надеты длинные одеяния, толстые шерстяные пальто или халаты – она точно не знала, как они назывались.
После скитаний и всего пережитого за время войны к маме вернулось романтическое восприятие всего, что несло с собой красоту и покой. И больше всего она говорила об удивительной для нее природе, где и эти старики, и киргизские женщины в национальных платьях, с дорогими украшениями из серебра и сердолика, казались ей органической частью древней незнакомой земли.
Теперь, в центре города стояли дома в стиле провинциальной сталинской архитектуры, а за центром точно, как в маминых рассказах, шли прямые улочки с белыми домиками, утопающими в зелени плодовых садов.
У калиток лежали, греясь на солнышке, или вышагивали своей величественной походкой верблюды. Попадался навстречу ослик с поклажей, рядом шагал старый киргиз в белой войлочной шапочке и традиционном национальном костюме. Смуглые ребятишки играли и веселились посреди улиц. Это был мир, наполненный густыми красками Востока. Мне было понятно восторженное восприятие мамой той жизни.
Наша московско-лениградская делегация выехала на роскошном автомобиле ЗИС из Фрунзе в Алма-Ату. Прекрасное современное шоссе шло через длинный горный перевал. Ранней весной долина уже покрылась сплошным красным ковром цветущих тюльпанов. Зеленые холмы уходили вдаль, а там тянулись необыкновенной красоты голубые вершины Тянь-Шаня.
Мелькали и оставались позади табунки стройных лошадей, стада ухоженных длинношерстых овец. Человеческое жилье оставалось где-то далеко за перевалом. Перед нами расстилалась величественная картина Чуйской долины.
Тогда-то киргизская природа подарила нам чудо. За зеленой гранью долины где-то далеко заблестело большое озеро. Послышались веселые крики купающихся, шум и гомон на берегу.
Автомобиль наш остановился. Шофер зачарованно смотрел на озеро и вслушивался в далекие звуки. Мы тоже сидели в каком-то оцепенении, тоже вглядывались в озеро, ловили каждый звук, который летел к нам оттуда.
Чудесное видение очень скоро исчезло, мы постепенно приходили в себя. Наш импозантный шофер, еще немного волнуясь, как мне показалось, улыбнулся и промолвил: «Успокойтесь, нет и не было там вдали никогда никакого озера, это природа подарила нам редчайшее явление: мираж… Я проезжаю эту дорогу почти ежедневно, туда и обратно, и впервые вместе с вами увидел такое…»
Я прекрасно понимала, что вижу удивительную природу как случайный путешественник, почтительно принятый хозяевами по вечным законам восточного гостеприимства. Нашей маленькой делегации предстояло несколько дней ответственной работы, и переживания чуда постепенно уходили вглубь памяти.
И все-таки мне очень хотелось представить себе, каким был город Фрунзе, в который мы направлялись, в далеком 1943 военном году, когда в нем оказались мои родители.
Оленьке было тогда десять лет. Она до сих пор хорошо помнит нелегкую дорогу из Свердловска во Фрунзе с пересадкой в Новосибирске. Сомнительные удобства в поезде и множество станций, на которых папа, как в давние времена, выбегал из вагона за кипятком.
Жизнь семьи в городе начиналась в центральной гостинице, пока искали квартиру. Вскоре поселились в районе именно таких улочек, о которых рассказывала мама, в саманном домике с глиняным полом.
Хозяйка дома, украинка, высланная как жена расстрелянного «врага народа», сумела увезти с собой большую библиотеку, и папа прежде всего позаботился о том, чтобы внучка могла читать. Ее первой книгой стал «Витязь в тигровой шкуре» – прекрасное издание в известных переводах Бальмонта, с прекрасными иллюстрациями. К папе возвращалась не только его любовь к художественным изданиям, но и умение направить детский интерес к чтению.
Потом он нашел в городе детскую библиотеку и сразу записал туда Оленьку. Библиотека находилась далеко от дома, и дед сам брал для внучки книги и менял, когда они были прочитаны. Купить детскую книгу тогда было невозможно. Он не мог подарить девочке Брема, как подарил его когда-то мне. Но еще в дороге на какой-то станции купил ей черепаху и рассказал все, что знал о жизни этих пресмыкающихся на земле и в воде.
Со временем представилась возможность переехать от хозяйки в Дом дехканина. В архитектуре этой гостиницы для киргизов-скотоводов и овощеводов, приезжающих во Фрунзе на базары, причудливо соединялись черты европейского дома и традиционного караван-сарая.
Двухэтажное здание вместе с сарайчиками и навесами над помещениями для скота образовывали большой внутренний двор, в центре которого бил фонтан. Киргизы приезжали торговать вместе с женами, детьми и скотом, оставались в гостинице до тех пор, пока не продадут весь свой товар.
Во дворе стояла и почти все время топилась плита, что-то варилось и жарилось. Вокруг бегали ребятишки, в стойлах кричали ишаки, с улицы подавали свой голос верблюды. И что-то привлекательное, даже умиротворяющее было в этой экзотике для усталых ленинградцев.
Папа получил на втором этаже светлую комнату, с электрической плиткой и радиоточкой. Теперь он мог спокойно работать и уезжать на заготовки сухофруктов, зная, что бабушка с внучкой будут жить в хороших условиях.
Приезжая из горных колхозов, он рассказывал о киргизском гостеприимстве. Всюду его усаживали за стол, угощали блюдами киргизской национальной кухни. И так же, как когда-то в псковской деревне, он не чурался местных обычаев. Бывало, мужчинам подавали жирную баранью ногу, а то и голову. Каждый по очереди брал ее в руки, чтобы съесть свою долю мяса и передать соседу. Рис в замечательных пловах ели руками. Папа беспрекословно соблюдал эти чуждые для него традиции.
Мама заботилась о питании семьи и о том, чтобы внучка не теряла школьных навыков. На продовольственные карточки редко можно было купить что-нибудь кроме хлеба. Правда, папа получал еще и паек. В него входили селедка, рис и два больших круга подсолнечного жмыха.
Это была та же дуранда, что в блокадном Ленинграде, но здесь она шла на корм домашнего скота. Жмых ценился высоко. Его можно было легко продать на базаре и на вырученные деньги купить кусок баранины, картошку, немного овощей и фруктов. Мама производила эту несложную операцию без лишних эмоций. Киргизы охотно и доброжелательно вступали торговые отношения с владельцами пайков. А Оленька покупала дедушке, когда он бывал дома, кулечек карамелек к чаю. Сахар не продавали и не выдавали по карточкам.
Бабушка с внучкой, исполнив все свои хозяйственные обязанности, садились за уроки. Все, что было пропущено в Свердловске, быстро наверстали, и девочка пошла в третий класс русской начальной школы.
В начале осени 1944 года папа полностью закончил работу, отправил в Челябметаллургстрой заготовленные фрукты. Можно было возвращаться в Свердловск. Туда от Нади неожиданно пришел вызов в Ленинград и, еще не веря своему счастью, семья отправилась в родной город.
* * *
Поезд со студентами Московского университета двинулся из Свердловска в Москву поздней весной 1943 года. Наша группа искусствоведов занимала целый вагон. Всех уже связывала дружба, окрепшая за трудное время эвакуации. Не обошлось, однако, и без волнений. Условием поездки в Москву для не москвичей была подписка о том, что там есть родственники, у которых сможет жить студент, или приготовленная для него квартира. Я подписала такую бумагу, хотя знала, что Шифрины в Москву еще не вернулись, а из других наших родственников там никто не жил.
В поезде мне не спалось. Лежа на полке, я пыталась связать воедино свои краткие воспоминания о том, как наша семья до войны, бывало, гостила в Москве. Впервые папа показал мне Москву, когда мы ехали на Черное море и два дня провели в Кривоарбатском переулке у Коганов. Мне тогда запомнились быстро мчавшиеся трамваи маршрутов «А» и «Б», которые мой ровесник и компаньон по морским купаньям Толя Коган называл, как все москвичи, «Аннушкой» и «Букашкой». Трамваи летели вдоль зеленых бульваров (Садовое кольцо, как и Бульварное, тогда еще было тоже зеленое), и кондукторши часто выкрикивали: «Ильинские ворота!», «Никитские ворота!», «Сретенские ворота!»», «Покровские ворота!». Это казалось мне очень странным, поскольку никакие настоящие ворота в этих местах не стояли.
Как настоящие, мне смутно помнились только очень красивые «Красные ворота». Мы проезжали их по дороге на Ленинградский вокзал. Но чуть ли не на следующий год после нашей поездки их снесли.
Верчение кольцевых московских улиц и переулков было совсем не похоже на наш стройный, прямой Ленинград, расчерченный по петровским градостроительным планам. И особенно удивляли странные названия.
Семья маминого племянника Яши жила в Мертвом переулке, а Шифрины – в переулке под названием Чистый. Оба дома стояли в прелестном уголке Москвы, в районе старинных Пречистенки и Остоженки, где сохранилось много очаровательных особняков в стиле московского ампира, крашеных в желтый и белый цвета.
Оба дома, где жили наши родственники, тоже были старинными, а названия переулков напоминали о еще более древней поре, когда в Москве свирепствовала холера.
Я хорошо помнила оба аккуратных дворика и особенно интригующие окна уютного подвала дома в Чистом переулке, где жили дядя и тетя с моей старшей кузиной Таточкой.
Я, конечно, видела их не только снаружи. Вся просторная и сухая квартира Шифриных представлялась мне в детстве таинственным заповедным уголком, где царствовали удивительные вещи. Войдя прямо с улицы, я оказывалась в заманчивом мире искусств.
Картины на стенах и готовые к работе холсты на полу соседствовали с букетами свежих цветов тут и там стоявших в кувшинах. Кисти и прочие инструменты живописцев тоже, как букеты, торчали в разные стороны из керамических сосудов на рабочем столе. Тетя любила глиняную и керамическую посуду, в которой как будто застыло горячее движение гончарного круга. Мольберт и рояль довершали семейство художественных предметов.
Что-то праздничное было в атмосфере этой на самом-то деле рабочей комнаты. Но заманчивее всего был шкафчик с вятской игрушкой. Лошадки, свистульки, девицы и важные барыни в фигурных кокошниках – все собиралось хозяевами со знанием дела – только в авторском исполнении. Наконец, простые стеллажи с книгами закрывали целиком одну из стен.
В немногочисленной мебели добротного «Павловского» стиля самым драгоценным представлялся мне секретер с множеством маленьких ящичков и отделением для секретов. Там лежали письма и важные бумаги. Отсюда, изнутри комнат казалось, что окна ведут в совсем другой мир, где мелькают прозаические сапоги, туфли и галоши шагающих по улицам людей, не причастных к волшебству искусства.
В этом подвале Шифрины прожили все тридцатые годы.
В 1940 году дядя получил от Театра Красной армии квартиру в новом доме для артистов и работников театра. Дом стоял на углу довольно высокого холма, в прежде тихом районе Екатерининской площади, улиц Старой Божедомки и ее продолжения – Новой.
Все его окружение теперь было иным. Когда-то на улице Старой Божедомки стояла церковь Иоанна-Воина, а рядом – знаменитый в Москве Божий дом (или дом для убогих), куда свозили перед похоронами неопознанных умерших.
Напротив Божьего дома в начале ХХ века купил себе особнячок знаменитый родоначальник династии дрессировщиков зверей – Владимир Леонидович Дуров. И уже в советское время эту Старую Божедомку назвали улицей Дурова.
Александровский институт и Мариинская больница для бедных стояли издавна недалеко, через площадь на другой улице – Новой Божедомке. Это были массивные здания с красивыми портиками и фронтонами, с белыми колоннами в стиле позднего ампира.
Здесь, в одном из флигелей Мариинской больницы, в семье штабс-лекаря Московского военного округа Михаила Достоевского родился и провел детство и юность его сын Федор, будущий писатель.
Вокруг было очень зелено и просторно. Но старые дома и сады, как и всюду в новое время, все сильнее теснила безликая застройка, вполне отражающая вкус и стиль советской архитектуры предвоенного времени.
Площадь, раньше названная Екатерининской, носила теперь имя Коммуны. А Новую Божедомку назвали улицей Достоевского.
Шифрины тогда переехали из подвала в светлую двухкомнатную квартиру на четвертом этаже нового дома, с солидной лестницей и балюстрадой при входе на холм, с балконами, украшенными фигурными гипсовыми балясинами.
Сюда я попала на зимних каникулах, в январе 1941 года, когда родители первый раз разрешили мне самостоятельное путешествие в Москву. Здесь все, еще сильнее, чем когда-то в Чистом переулке, очаровывало меня своей изысканностью.
Исчезла таинственность и мягкий сумрак подвала, зато на свету засияли стены с живописью и стали хорошо видны несколько небольших икон старинного русского письма.
Вся мебель и книги разместились в большой комнате с балконом так естественно, как будто всегда тут находились. И главное место во главе большого обеденного стола заняло импозантное кресло тети Маги с высокой спинкой и мягким сиденьем, все обтянутое старинной тканью и обрамленное деревянной резьбой в барочном духе.
Обязанности гида дядя и тетя, постоянно занятые работой в театре, поручили тогда дочери. Тата была старше меня на три года. Очень хорошенькая внешне, совершенно самостоятельная, увлеченная театром настолько, что знала все московские спектакли и всех известных артистов, она вызывала мою зависть и восхищение, а ей приятно было покровительствовать мне, младшей. Так что мы прекрасно проводили время.
Был немедленно составлен план посещения родного Театра Красной армии, и, конечно Московского художественного театра. Мы посмотрели знаменитые шекспировские спектакли «Укрощение строптивой» и «Сон в летнюю ночь» в оформлении дяди и тети. Потом последовали «Горячее сердце» и «Школа злословия» в Художественном театре. На очереди стали музеи, и тут я погрузилась в Третьяковскую галерею, где сразу отыскала зал Врубеля, давно знакомого по альбому, читанному вместе с мамой в детстве.
Валентин Серов с его «Девочкой с персиками» почему-то особенно тронул меня. Тата похвалила мой вкус и купила на память большую репродукцию «Девочки с персиками».
В Музее нового Западного искусства меня совершенно ошеломил «Танец» Матисса на верхней площадке главной лестницы.
Дядя каждый вечер требовал от меня подробного отчета о том, что мы видели в театре или в музее. И когда я стала, захлебываясь, рассказывать о Матиссе, молча подошел к книжной полке, достал оттуда два оранжевых томика «Писем Ван Гога» и сказал: вот, почитай, сколько успеешь до отъезда.
Эти книги сыграли не последнюю роль в моем искусствоведческом будущем, хотя тогда, в последнем классе школы, я собиралась стать филологом. До поступления на искусствоведческое отделение Московского университета было еще далеко.
Теперь же, в поезде, мысли о прошлом перемежались с беспокойством о том, что меня ждет в нынешней военной Москве. Но не только меня волновала неизвестность. В Свердловске наш второй курс искусствоведческого отделения приобрел несколько пеструю окраску.
Группу коренных москвичей, вернувшихся из Ашхабада, дополнили столь же коренные свердловчане. Все это, не считая трех студенток, которых после расстрела родителей в Свердловск забросила судьба.
Это были моя подруга Нина Беус, Лида Попова и Светлана Тухачевская, дочь маршала Советского союза Михаила Николаевича Тухачевского, расстрелянного летом 1938 года по обвинению в троцкистском заговоре.
Обвинения были сфабрикованы по прямому указанию Сталина и Ворошилова, и вся многочисленная семья этого талантливого полководца, верно служившего советской власти, пережила расстрел жены и аресты сестер, высылку детей.
Светлана знала, что ее поездка в Москву нелегальна, уж очень она была на виду у карательных органов, но она страстно хотела учиться и шла на риск, направляясь в Москву. Мы все горячо сочувствовали ей и надеялись, что война смягчит отношение карателей к Светлане.
Перед проверкой документов и пропусков мы спрятали ее за грудой вещей на третьей, полузакрытой полке. Но когда поезд подошел к перрону на Казанском вокзале, среди немногих родственников, встречавших студентов у нашего вагона, стоял человек в штатском. Он спокойно смотрел, как мы все друг за дружкой спускались на перрон. Увидев Светлану, он вежливо подал ей руку и молча отвел в сторону.
Больше мы ее не видели. Она понимала наше беспокойство, и через некоторое время кто-то из ребят получил весточку из Свердловска. Туда ее отправили в тот же самый день, когда поезд пришел в Москву.
* * *
Первую ночь в Москве я провела в квартире тетушки моей сокурсницы Эльзы Кильчевской. Эльза сама, зная, что никаких родных и близких в столице у меня нет, предложила этот краткий приют. Но тетушка, надо сказать, была сильно напугана неосмотрительной благотворительностью племянницы, и не без основания. В условиях комендантского часа держать у себя человека без московской прописки означало прямое нарушение закона военного времени.
Так что наутро, попросив разрешения оставить в квартире чемодан, я с одним портфелем в руках отправилась на Центральный телеграф, чтобы сообщить родителям о своем благополучном прибытии.
Центр Москвы мне довольно хорошо помнился по недавней зимней поездке. Я оценила, каким прекрасным гидом оказалась тогда моя сестра Тата. Она показала мне не только музеи, но многие архитектурные достопримечательности столицы.
Так что я хорошо помнила Охотный ряд, Университет на Моховой улице. Мы долго рассматривали Пашков дом и угловой дом старинной постройки в начале Воздвиженки, чье авторство приписывалось Баженову, затем Морозовский особняк. Воздвиженка тогда называлась улицей Коминтерна, потом еще и Калинина, но так же, как ленинградцы, москвичи не считались с новыми названиями.
Арбатские переулки я немного помнила по коротким визитам в детстве. Еще лучше запомнилось предвоенной зимой здание телеграфа. Сюда мы заходили, чтобы позвонить моим родителям по междугородному телефону. Тогда я еще позавидовала обширным познаниям Таты. Именно от нее я услышала, что Иван Иванович Рерберг построил Киевский вокзал, с которого мы не однажды ездили на Черное море и на Украину, а в 1927 году создал это чудо инженерного искусства: здание Центрального телеграфа.
Родители специально не обучали Тату истории искусств, просто она выросла в атмосфере художественности, царившей в доме. В московской архитектуре и в музеях она разбиралась прекрасно.
По улице с немного странным для ленинградского уха названием Маросейка, где ночевала, я спустилась к Охотному ряду и оттуда поднялась к телеграфу. Теперь, ранним летом 1943 года в это здание сходились все ниточки связей военной Москвы с остальной страной.
Сотни людей назначали здесь деловые встречи и свидания, сюда посылали учреждения и частные лица разную корреспонденцию. В нескольких почтовых окошках «До востребования» часто стояли большие очереди – стольким приезжим, еще не имеющим, как я, крыши над головой, шли письма и телеграммы из разных концов России.
Кто-то из неустроенных приезжих или проезжих командированных иногда заходил на телеграф, чтобы просто отдохнуть после долгого хождения по городу. В зале для писем посетители могли посидеть за столами. А на переговорном пункте для тех, кто ожидал вызова по телефону, были мягкие сиденья.
Мне рано было ждать известий от родителей. Я отправила им телеграмму о своем благополучном приезде в Москву и поспешила на Моховую улицу в Университет.
Не помню, кто был тогда ректором университета, но он меня сразу принял. И с этой минуты началось мое хождение по мукам. Предъявив свой паспорт и студенческий билет, я просила его о месте в общежитии, где московская прописка могла бы обеспечить мне сносное существование и, главное, продовольственные карточки.
Разобравшись во всех обстоятельствах моего появления в Москве, в том числе и в ложной подписке, будто я имею родственников с жилплощадью, ректор очень вежливо объяснил, что в общежитии мест нет и помочь мне он не может.
Рассчитывая на снисхождение, я попробовала рассказать ему о пережитой блокаде. В ответ, помахивая холеной рукой с моим паспортом, он громко, и, как мне показалось, с оттенком возмущения в голосе, изрек нечто особенно обидное для меня: «При чем тут блокада? Вы теперь даже не ленинградский житель! Вы выехали оттуда в эвакуацию и прописаны в Свердловске. Вот туда и возвращайтесь, пока Вас в двадцать четыре часа не выслала милиция!»
Эти сакраментальные «24 часа» могли тогда испугать даже самых смелых мечтателей о жизни в столице. Они означали срок, в течение которого незаконный элемент должен был покинуть пределы города.
Днем и ночью военные патрули шествовали в ту пору по Москве, следя за соблюдением строгих военных законов. В любой час, в любом месте вас могли остановить, проверить паспорт и другие документы, задать любой вопрос о том, чем занимаетесь, где живете и тому подобное.
За час до полуночи наступал тот самый комендантский час, когда движение пешеходов по городу прекращалось, и стоило патрульным застать вас на улице, вы отправлялись в ближайшее отделение милиции дожидаться там шести часов утра. Если же оказывалось, что ваше пребывание в Москве вообще незаконно, то в двадцать четыре часа вас обязывали покинуть город в любом направлении, любым видом транспорта. И можно было не сомневаться, что об исполнении этого требования родная советская милиция позаботится.
Выйдя из ректората, я сразу поняла две очень важные вещи. Первая – что паспорт мой никуда не годится, а в качестве документа лучше всего предъявлять при проверке студенческий билет (студентка Московского университета – это гражданин уже наполовину законный). И вторая: что надо немедленно ехать в общежитие и каким угодно путем добыть себе справку, что там есть для меня место, а с этим снова вернуться к ректору, и снова просить… направление в общежитие для прописки в Москве. Форменный абсурд! Бюрократия высшей пробы!
То, что студенческий билет имеет некую магическую силу, я поняла, когда, почувствовав страшный голод и пришла в студенческую столовую в подвале главного корпуса Университета. Я предъявила это удостоверение дежурному и спокойно вошла. Было как раз время обеда. За столиками сидели студенты. В раздаточной мне выдали большую тарелку щей из зеленых капустных листьев, которые в мирное время шли на корм скоту. В студенческом просторечье они назывались «хряпой». Но щи были горячие и даже довольно вкусные.
Я села за столик, и, к великой радости, увидела, что на хлебнице горкой лежат довольно толстые ломти черного хлеба, и никаких карточек на него не требуется. Наскоро покончив со щами, я положила в портфель кусок хлеба и помчалась в общежитие.
Улица Стромынка. Кто из студенческой братии не знал ее! Там, в двухэтажных корпусах общежития Московского университета, которое тоже так и называли Стромынка, многие находили приют. Там устраивались маленькие пирушки и просто встречи друзей, там можно было переночевать на свободной койке, а после закрытия входной двери влезть в комнату с улицы через окно первого и даже второго этажа.
Сейчас от той студенческой Стромынки не осталось и следа, новое общежитие разместилось в роскошных многоэтажных корпусах Университета на Воробьевых горах. И только старое, давно требующее ремонта здание Клуба имени Русакова, построенное в 1927–1929 годах гениальным Константином Мельниковым, делает Стромынку по-прежнему примечательной московской улицей.
Она действительно была в старину одной из важных для Москвы. Здесь проходил большой тракт, который вел на север и северо-восток России. На пути стояли Стромынский монастырь и большое село Стромынь.
Дорога эта шла к Суздалю, к Юрьеву-Польскому. Справа от Стромынской дороги тянулась до Владимира знаменитая «Владимирка».
После того, как в Москве появилось метро, конечная остановка первой линии «Сокольники» вела прямиком в район улицы Стромынка.
Выйдя из университетской столовой, я вошла в вестибюль метро «Охотный ряд» и еще раз подумала о том, какой умницей была моя сестра Тата, когда показывала мне Москву. Мы с ней проехали от Парка Культуры и отдыха до Сокольников, рассматривая вестибюли каждой станции как новые архитектурные достопримечательности. Московское метро тогда считалось чудом искусства и строительной техники.
Но нашей конечной целью, было именно здание, выстроенное по проекту архитектора Мельникова – знаменитое произведение советской архитектуры 20-х годов: Клуб имени И. В. Русакова.
Тата с воодушевлением говорила о нем. А мне, воспитанной на классической петербургской архитектуре, его мощные кубические объемы показались слишком холодными и сухими. Но я угадывала, что Мельников с его авангардными постройками дорог ей как часть тех же идей, какие в двадцатые годы владели умами не только архитекторов, но живописцев. Дядя Ниссон был тоже захвачен ими, о чем можно судить по его полотнам и детским книгам того времени.
Так, рассуждая о современной архитектуре, мы тогда доехали до метро «Сокольники» и, пройдя немного пешком, оказались на Стромынке. Теперь я ехала туда с уверенностью, хоть и не без волнения.
Не знаю, как и чем я тронула сердце коменданта общежития, но, поговорив со мной, он выдал мне некую бумагу, с которой я вернулась в ректорат. И все-таки получила на этой драгоценной бумаге резолюцию ректора. Он просил отделение милиции прописать студентку Ганкину в общежитии Московского университета.
Куда девалось его возмущение и предупреждение о высылке в 24 часа? Все дальнейшее, начиная от прописки, получения продовольственных карточек и кончая кроватью в общежитии на Стромынке, шло по каким-то определенным бюрократическим дорожкам. Надо было только набраться терпения и пройти их, как положено всякому советскому гражданину, получившему право на жизнь в столице.
Еще долго выручал меня на этом пути студенческий билет. Главное, он давал мне возможность целыми днями после занятий на факультете пропадать в главной библиотеке страны, которую студенты называли просто «Ленинкой».
Стоило попасть в большой читальный зал бывшего Румянцевского музея в красивейшем Доме Пашкова, как все беды куда-то отступали перед той особой тишиной и тем уютом, какие всегда присущи старым библиотекам, с их неизменными деревянными балкончиками-антресолями и зелеными лампами на столах.
Любую книгу и альбом по искусству студент мог свободно получить для работы. И бывали дни, когда я засиживалась в библиотеке до самого закрытия. На Стромынку ехать в это время бывало уже поздно, близился комендантский час, но недалеко от Моховой, на Большой Бронной улице, где располагался наш факультет, можно было переночевать в комнатке дежурного по противовоздушной обороне. В портфеле у меня всегда лежало небольшое полотенце, мыло и зубная щетка.
Летом 1943 года в Москве было довольно пустынно и голодно, оставалось затемнение, но бомбежки давно прекратились. Перелом в войне наметился после освобождения Сталинграда, еще зимой, в январе. Постепенно в столицу стали возвращаться эвакуированные на восток институты, учреждения, профессура и ценные работники предприятий. Затеплилась какая-то культурная жизнь.
Еще задолго до нашего приезда из Свердловска, в марте 1943 года, в здании Колонного зала Дома Союзов – главном тогда официальном месте проведения важных съездов, конференций и грандиозных панихид по усопшим партийным руководителям – впервые по инициативе писателя Льва Кассиля прошел праздник детской книги, названный «Книжкины именины».
Участников и зрителей на празднике было много: школы, закрытые осенью 1941 года, теперь заполнились учащимися. Об этом удивительном событии культурной жизни военной Москвы я узнала, к сожалению, много позже.
Но почти одновременно с нашим университетом в Москву из эвакуации возвращались театры. К тем, что оставались в Москве – к Музыкальному театру имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театру Революции и Театру Вахтангова прибавился Большой театр.
В кинотеатрах начали демонстрировать не только кинохронику. Появились новые документальные фильмы об освобождении Белоруссии, о битве за Украину.
И, наконец, художественные фильмы. Например, очень популярный фильм Пудовкина и Васильева «Русские люди» или фильм американского режиссера Майкла Кертиса «Миссия в Москву». Они напоминали о новых дружественных отношениях с союзниками.
Меня же гораздо больше взволновало другое неординарное событие: в Третьяковской галерее, чьи сокровища еще летом 1941 года отправили в Новосибирск, открылась художественная выставка «Героический фронт и тыл». Там среди многих фронтовых зарисовок я увидела цикл литографий Алексея Федоровича Пахомова, созданных в блокадном Ленинграде.
Глядя на лист «За водой», я вспоминала наши с Надей походы с чайниками на Фонтанку или переход в Гавань вместе с цепочкой изможденных людей по невскому льду. Да и все другие листы ранили мое сердце, пробудив массу личных воспоминаний.
Это был тот случай, когда вся искусствоведческая наука о форме и художественных средствах в искусстве, к тайне которой мы прикоснулись на первом курсе университета, отступила перед документальной силой этой графики.
Я была глубоко взволнована, и мне казалось, что среди толпы зрителей, пришедших на выставку, только я и художник пережили в реальности одни и те же картины страшной блокадной жизни.
И уж, конечно, не думала, что придет время, и я буду сидеть в мастерской Алексея Федоровича Пахомова и вместе с ним вспоминать дни блокады.
К середине лета студенты уже работали на трудовом фронте. Московский университет направлял разные группы на лесоповал и на сельскохозяйственные работы в районе села Красновидово. Там располагалось большое плодовоовощное хозяйство: совхоз, который помогал университету сельскохозяйственными продуктами.
Студенты работали на огородах и на лесоразработках. Место было очень интересное: зеленые берега Москвы-реки, рядом – старинный русский город Можайск и знаменитое Бородино, где шло сражение с Наполеоном в 1812 году.
В XIX веке семья Фон-Мек построила в селе Красновидово красивую усадьбу. Тут стояла когда-то церковь Александра Невского. Недалеко находился Инвалидный дом для железнодорожных служащих, а в советское время там жили испанские дети, прибывшие в Советский союз в годы гражданской войны в Испании.
Немцы заняли Бородино и окрестности во время наступления на Москву в октябре 1941 года и многое разрушили. Красная Армия освободила весь Можайский район только в январе 1942–го. Теперь там шли разные восстановительные работы, приводился в порядок лес.
При отборе студентов для поездки на лесоповал и в совхоз Красновидово меня забраковали, посчитав недостаточно сильной физически. Да и вообще тогда и студенты, и преподаватели смотрели на меня с участием, как на человека, пережившего самую трудную часть блокады Ленинграда.
Город еще находился в окружении, и это придавало особый интерес моим блокадным дневникам, которые ребята выпросили у меня и читали, передавая из рук в руки. К сожалению, эти несколько тетрадей, привезенных из Ленинграда, ко мне так и не вернулись.
Перспектива остаться одной в Москве, когда все сокурсники уедут в Красновидово, меня не очень радовала. К тому же хотелось побывать в знаменитых местах военной истории, где так причудливо через 130 лет встретились 1812 и 1942 годы.
Я съездила в Красновидово на день со своей группой и поняла, глядя на слишком явные следы военной разрухи, что работа будет здесь для меня не по силам, а для исторической экскурсии время еще не пришло.
В Москве делать было совершенно нечего. После того, как студенты разъехались, на Стромынке стало совсем свободно, но жить очень неуютно. В комнатах почти не убирались, потому что слишком часто менялись соседи. Простыни стелились сырые, одеяла выдавались не первой свежести, а вещи требовали держать в камере хранения.
Но меня, пожалуй, тяжелее всего угнетало недоедание. «Хряпа» в столовой довольно быстро приелась, а то, что удавалось получить по карточкам, негде было хранить, да и приготовить в условиях общей кухни трудно.
В письмах к родителям я старалась всячески сгладить эти мрачноватые детали моей повседневности, описывала подробное знакомство с Москвой и всякие впечатления от архитектуры, так сильно отличавшейся от архитектуры ленинградской.
* * *
Осознав свою свободу от борьбы за университет и за право жить в Москве, я вдруг почувствовала себя совершенно одинокой. Родители находились в далекой, неведомой мне Азии, Надя, оставшись одна в Свердловске, начинала хлопотать о возвращении в Ленинград.
Ближе всех к Москве (хотя и на расстоянии пятисот километров) из круга родных мне людей оказалась двоюродная сестра Зина, которая застряла в эвакуации в Вологде. И я решила вместо трудового фронта уехать к ней.
Зиночка была дочерью старшего брата моего папы – дяди Исаака Ганкина. Семья дяди жила в Киеве, а в 1928 году он еще вполне легально эмигрировал в Мексику. С ним и его женой, тетей Хасей, уехали только двое из троих детей: сын Фима и младшая дочка Груня.
Старшая Зина – тогда активная комсомолка – осталась в Советском Союзе. Она вышла замуж за веселого энергичного парня Шулю Левинсона (нашего будущего ленинградского спасителя). Вскоре молодая пара уехала в Ленинград, где у них родилась дочка Жанночка.
Шуля закончил Военно-инженерную академию, а Зина – библиотечный институт. Он стал специалистом по морской фортификации, она – к концу 30-х годов работала главным библиографом старейшего книжного собрания Петербурга – Библиотеки Академии наук, что на Университетской набережной.
Хорошо образованная как библиограф, она активнее всех родственников одобряла мое поступление на филологический факультет ленинградского университета. Еще школьницей старших классов я успела крепко подружиться с Зиной. У нас было много общих литературных интересов, и мы обе мечтали, что будем часто видеться, когда я начну учиться. Ведь филологический факультет университета находился почти рядом с библиотекой Академии наук, где работала Зина. Но начавшаяся война разрушила эти мечты.
Дядина эмиграция оказалась неудачной. Сын Фима вступил в мексиканскую коммунистическую партию, активно работал в «Доме СССР» в Мехико, затем отправился путешествовать по Европе, много всего повидал, передумал и вернулся оттуда уже не в Мексику, а в СССР. Сам дядя нашел для себя лишь скромную бухгалтерскую работу.
Успешнее всех оказалась младшая дочь Груня. Она блестяще окончила частную платную Академию музыки Сальвадора Ордоньеса, который, видя большие способности девочки, стал ее педагогом и учил бесплатно.
В «Записках профессора Санкт-Петербургской консерватории», опубликованных в журнале «История Петербурга» №3 за 2003 год, Груня вспоминает о жизни семьи в Мехико.
За четыре года занятий у Ордоньеса она продемонстрировала большие способности, получила хорошее образование, слушала многих приезжих пианистов и даже получила предложение руки и сердца от некоего заезжего аргентинца, обещавшего ей вместе с замужеством хорошую карьеру.
На нескольких старых фотографиях, сделанных еще в Мехико, видны и открытая привлекательность, и обаяние юной пианистки.
Понятно, как волновались родители за ее будущее. Они не представляли себе, что любимая дочь в чужой стране однажды покинет семью, да еще с человеком из другого, незнакомого мира.
Эти мысли и некоторое ухудшение политической обстановки заставили дядю решиться на возвращение домой. В 1932 году они уехали из Мехико.
Недолгое пребывание в Берлине, где уже чувствовалось предвестие фашистского переворота, убедило их в правильности принятого решения. Советские органы, к счастью, не тронули бывших эмигрантов, может быть, потому, что сначала они остановились в Киеве, где обстановка была спокойнее, чем в Ленинграде. Но продолжать музыкальное образование Груня хотела в Москве.
Я хорошо помню, как она появилась у нас. Красивая молодая девушка, элегантно причесанная и одетая с заграничным изяществом. Меня особенно поражали ее украшения: красивое кольцо с драгоценным камнем и браслет.
Ленинградские женщины давно подобных вещей не носили. Все боялись навлечь на себя подозрения в буржуазности. Подлинные драгоценности тогда, как правило, или надежно прятали, или относили в Торгсин.
Груня приехала к нам из Москвы, где играла Генриху Густавовичу Нейгаузу в надежде поступить в Консерваторию. Он очень хорошо принял ее, внимательно прослушал, но посоветовал ехать в Ленинград и рекомендовал поступить в класс Марии Вениаминовны Юдиной.
Придя в Ленинградскую консерваторию, Груня узнала, что Юдина только что уволена. Великой пианистке не могли простить ее религиозность и недостаточно правоверные взгляды.
Семья композитора Майкапара познакомила Груню с Ольгой Калантаровной Калантаровой, у которой она, блестяще сдав экзамены, прошла полный курс.
Папа, не раздумывая, поселил Груню у нас. Она готовилась к экзаменам многие часы, играя на рояле в нашей столовой. И потом, уже после поступления в консерваторию, продолжала ежедневно заниматься. Вместо любимого кабинетного рояля, который был продан в трудную минуту, папа давно взял напрокат хороший инструмент, чтобы учить музыке меня.
И даже учительницу (скорее всего, не без помощи Ивана Ивановича Грекова) он нашел по соседству.
На Колокольной улице жила семья Штриммер – известный ленинградский виолончелист и его жена Анна Михайловна, пианистка.
Хотя я очень любила музыку и вместе с папой много слушала музыкальные передачи по радио, уроки музыки, так же как домашние упражнения на рояле, меня очень угнетали. Я ненавидела гаммы и этюды, а к Штриммерам ходила как на казнь. Когда же появилась Груня, я убедила папу, что профессиональной пианистке нужен рояль для более серьезных занятий, чем мои упражнения. И в нашей квартире целыми днями звучала чуть ли не вся музыкальная классика. А я теперь могла спокойно читать любимые книги.
Мама, надо сказать, поддержала мое предпочтение, оказанное вместо музыки литературе. А Груня не менее успешно, чем в Мехико, окончила Ленинградскую консерваторию. К началу войны она была уже аспиранткой.
Консерватория эвакуировала своих преподавателей и студентов с семьями в Ташкент. Груня была замужем и уехала туда вместе с родителями. В Ташкенте у нее родилась дочь, названная Аллочкой. Жизнь в перенаселенном азиатском городе оказалась для семьи чересчур тяжелой. Дядя Исаак не выдержал трудных условий и довольно печально закончил там свои дни.
Перебирая в мыслях эту историю семьи старших Ганкиных, я сидела у окошка переполненного вагона поезда, который шел в Вологду. Мои знания об этом старинном русском городе были на тот момент абсолютно примитивны.
Некоторый багаж прослушанных за год университетских лекций и даже небольшой опыт просматривания в библиотеке иллюстрированных изданий по искусству и архитектуре подсказывал, что я увижу немало интересного и редкого. Но реальность, с которой я столкнулась, превзошла все мои ожидания.
Опускаю рассказ о радостной встрече с сестрой и племянницей. Зина с дочерью, как многие эвакуированные ленинградцы, жили очень скромно в небольшой, но светлой комнате первого этажа ничем не примечательного дома.
Попали они в Вологду не случайно. Там находилось несколько предприятий, выполнявших оборонные заказы. Примерно те же, что выполняли в Ленинграде мастерские Адмиралтейства, принадлежавшие управлению Балтийского флота.
Именно с этими предприятиями продолжал научную и практическую работу Шуля Левинсон. Семьи инженеров и других служащих Балтийского флота эвакуировали в Вологду. Этот старинный русский город принял много других военных производств и едва ли не полмиллиона эвакуированных. Здесь было налажено паровозостроение, выпускались бронированные вагоны и специально оборудованные санитарные поезда, возник один из госпитальных центров страны, подобный тому, что в Свердловске, только меньший по масштабам.
Корабли строились в Вологде издавна. Город, выросший по обе стороны реки Вологды, еще при Петре Первом стал военной базой российского флота. Также искони особенно широко развивались столярные и плотницкие ремесла. Тому способствовали роскошные леса. И родилась особая вологодская архитектура, в которой с XVIII до начала XX века нашли свое воплощение все архитектурные стили: классицизм, ампир и модерн.
Местные архитекторы внесли в это строительство немало оригинального. «Деревянный ампир» вологодских миниатюрных усадеб отличался интимностью и уютом: особнячки с мезонинами, с балкончиками, украшенными фигурными балясинами, окнами с кружевами наличников. Особенно своеобразны были деревянные колонны ионических, коринфских и дорических ордеров. И все это существовало в тончайших комбинациях окраски от нежно-оливкового и зеленого с белым до темно-красного и коричневого. Долгое время еще сохранялись деревянные тротуары вдоль уютных улиц с палисадниками и садами.
Примерно в середине XIX века в Вологде родилось и получило свое развитие редкое ремесло кружевоплетения, и, как утверждают старожилы, найден был секрет особого качества не менее знаменитого, чем деревянный ампир – вологодского масла, которое уже тогда завоевало свою славу и шло на экспорт. Английские купцы приметили этот торговый город еще в XVIII веке.
Но главной архитектурной достопримечательностью Вологды всегда были Софийский собор XVI века и древний кремль, построенные по велению царя Ивана Грозного. Десятки церквей и несколько монастырей дополняли это богатство.
Совершенно не помню дорогу с вокзала на нужную мне улицу, которую я довольно быстро нашла. Но никогда, наверное, не забуду, как на другой день, выйдя из теплого сытого дома, очутилась на берегу реки, лицом к лицу с Софийским собором.
Помню даже прохладную ветреную погоду. Она странным образом усиливала впечатление сурового величия, какое производили высокие стены, мощные закомары и величественные купола главок сбора.
Дверь легко подалась, и я впервые в жизни попала в доселе неведомый мне мир подлинного древнерусского храма. В Ленинграде ничего подобного я не видела, а в московский кремль до войны, и уж тем более во время войны, простой народ не пускали, он охранялся особенно бдительно.
Фрески прекрасной сохранности поразили меня. Весь собор был щедро расписан, и хотя я еще совершенно не разбиралась в сюжетах или именах святых угодников – Страшный суд, занимавший всю западную стену, не требовал специальных знаний, чтобы понять все величие и духовную мощь росписи.
Гораздо позже я узнала, что у всех росписей собора есть авторы – ярославская артель иконописцев Дмитрия Плеханова. Я переходила от одного сюжета к другому, и каждый удивлял и притягивал меня. В соборе было холодно и пусто, он не действовал и, очевидно, мало посещался, за мной никто не следил.
Утомленная донельзя, переполненная пережитым, я вышла на берег. И снова, более широко и открыто, атмосфера глубокой старины обступила меня. Весь следующий день я бродила по городу и удивлялась сохранности церковной архитектуры и неповторимому обаянию старого деревянного строительства. Каждая вологодская неделя приносила какие-то новые приятные открытия. Но главный сюрприз ждал впереди.
Настало время познакомиться с рынком. Зина поручила мне купить молочные продукты для дома, и я охотно туда отправилась.
О войне здесь напоминала, пожалуй, только товарообменная часть большого шумного базара. Картошка и другие овощи стоили дорого, но имелись в изобилии. Лесные ягоды особенно дразнили глаз.
Но главное богатство являли собой молоко – сырое и топленое, ряженка и густая сметана, в которую хозяйки нарочно ставили ложку, и ложка стояла, а также творог и масло – то самое, вологодское. Его продавали крупными и мелкими «катышами», кто – на чистой марлевой салфетке, а кто – на зеленом капустном листе. Так, как в лучшие годы на нашем Кузнечном рынке.
А в сторонке или как бы невзначай между торговыми прилавками ходили женщины, реже – мужчины с товаром на продажу и на обмен, главным образом с одеждой всех сортов и видов. Это были эвакуированные. Далеко не все богатства рынка были им по карману, а рацион продовольственных карточек, как всюду в это время, напитать не мог.
Я уже собиралась уходить, когда вдруг увидела в окошке первого этажа дома недалеко от входа на рынок, на импровизированной витрине два оранжевых томика писем Ван Гога – тех самых, что я начала читать на каникулах у Шифриных. Неужели их можно купить? Боюсь быть неточной в описании цены, помню только, что для меня она была запредельной.
Все же я вошла в помещение, явно на скорую руку приспособленное под магазин. Тут продавалась всякая галантерейная мелочь, что-то из канцелярских товаров и книги. Мы разговорились с молоденькой продавщицей. Я объяснила, почему так хочу купить письма Ван Гога. Увидев в моих глазах жар желания и грусть по поводу отсутствия денег, она подумала и спросила, нет ли у меня чего-нибудь на обмен.
Единственной дорогой вещью были на мне кирзовые сапожки. Здесь, также как в Свердловске, в такой обуви ходить было престижно, и обмен быстро состоялся. Я, надо сказать, в пылу восторга не подумала, в чем буду теперь ходить сама, но была уверена, что Зина не только одобрит мое приобретение, но и выручит какой-нибудь парой обуви взамен утраченных сапожек.
Книжки были в отличной сохранности, и скорее всего, принадлежали знающему книголюбу или профессионалу. Хозяйка импровизированного магазина сразу сняла их с витрины и обещала до завтра хранить под прилавком.
Назавтра я, одетая в сестрины туфли, со своими любимыми сапожками в руках, пришла за двумя желанными томиками.
* * *
В столицу я вернулась заметно окрепшая. На центральном телеграфе меня ждали два письма от родителей и денежный перевод.
Все уже было не так страшно, как в первые дни приезда из Свердловска. Заметно изменилась и общая обстановка в городе. Подули какие-то ветры перемен.
Теперь все чаще звучали салюты победы. Сначала по случаю освобождения Белгорода и Орла, затем Курска и Харькова. Первые салюты (они начинались вечером) пугали московских детей, успевших пережить бомбежки. Но потом все привыкли к грохоту салютов, выбегали на улицу смотреть на фейерверк и кричали «Ура!».
К этому времени в Красной Армии (в 1946 году ее переименуют в Советскую) ввели новую экипировку солдат и командиров. Вернулись погоны по образцу тех, что носили военные в царской армии. Из геральдических архивов воскресли прежние ордена.
Под личной редакцией вождя народов создавался новый гимн Советского Союза вместо Интернационала.
Одновременно партия допускала некоторые послабления в прежних формах идеологического давления на искусство. После жестокой борьбы с формализмом наступил неожиданный откат.
Подвергнутые остракизму в конце 1930-х годов, лучшие композиторы страны – Шостакович, Прокофьев и Мясковский – вдруг получили Сталинские премии. Они оказались нужны партии для прославления ее побед и для укрепления патриотического духа армии и народа.
Впервые в Москве была исполнена 8-я симфония Шостаковича. Оперу Прокофьева «Война и мир» поставили в концертном исполнении. По Всесоюзному радио зазвучали не только патриотические песни, но и серьезная музыка.
Продолжали возвращаться из эвакуации московские театры: Центральный театр Красной армии, театр Ленинского комсомола. Все это вносило в жизнь города праздничную ноту.
Наконец, и студенты вернулись с трудового фронта, кое-кто из иногородних второкурсников успел побывать дома, в Свердловске.
Внутри большой группы искусствоведов образовалась маленькая дружная компания. Мы – Юра Золотов, Иосиф Глозман, Толя Кантор и три девочки: Лиля Игнатьева, Тамара Петрова и я – находили приют и гостеприимство в семье Верочки Кауфман.
Ее родители – Николай Георгиевич и Евгения Васильевна – тоже, наконец, воссоединились после эвакуационных скитаний. Николай Георгиевич, ценный специалист в области самолетостроения, еще в конце 30-х годов отсидел тюремный срок. Теперь он снова занял важное место в одном из научных институтов и мог обеспечить семью.
Это был теплый, приветливый дом на Большой Грузинской улице, где нас принимали и подкармливали простой, но вкусной домашней пищей. Самым праздничным угощением считалась картошка с душистым подсолнечным маслом и капуста, которую Евгения Васильевна солила или квасила сама.
Мы не очень-то думали о том, как достаются хозяевам эти яства, и почти каждый вечер после занятий, а во время сессии особенно, с превеликой охотой закатывались всей голодной ватагой на Большую Грузинскую. Мы знали, что старинный семейный стол будет накрыт белой крахмальной скатертью, сервирован, как в мирное время, и нас сытно накормят, расспрашивая обо всех событиях университетской жизни.
Кроме всего этого, Николай Георгиевич иногда приносил из своего института нам, трем подругам дочери, талоны на обед в закрытой столовой для сотрудников.
В это время в обиход вошло волшебное слово «ленд-лиз». Американская и английская помощь Советскому Союзу поступала в страну почти сразу после начала войны. На пароходах и по воздуху в СССР доставляли новейшее вооружение для армии, сталь и другие материалы, необходимое горючее, самолеты, танки и автомашины. Теплая одежда и продукты питания шли в огромных количествах на фронт, знаменитая американская свиная тушенка досыта кормила солдат.
К 1943 году ценнейшие продукты начали попадать в магазины и продаваться населению. По карточкам продавали сахар, какао, сухое молоко, мясные консервы. Их стали называть «второй фронт», хотя реальный второй фронт, которого так ждали все, еще не был открыт.
Яичный порошок, поступавший в больших количествах, шутя называли «яйцами Рузвельта». Особую ценность приобрел так называемый «лярд». В дословном переводе с английского языка – топленое сало. Этим нежнейшим жиром поднимали с постели истощенных детей и больных.
В учреждениях раздавали американскую и английскую одежду. На некоторых вещах люди находили записки со словами: «Мы хотим, чтобы вы победили».
Обнадеженные такими переменами к лучшему, многие студенты перестали ходить в студенческую столовую. Я и Лиля Игнатьева, у которой родители жили в Свердловске, решили снять недорогой угол и жить вдвоем своим хозяйством.
Поселиться в центре города, в каком-нибудь солидном здании, где имелись современные удобства, нам, конечно, было не по карману. Но совершенно неожиданно нашлась квартира, где бывшую ванную комнату за недорогую плату хозяйка приспособила под съем для студентов.
Нам сразу понравился простой двухэтажный домик в Подколокольном переулке как раз в центре Москвы, между улицей Солянкой и Покровским бульваром.
Это был один из старинных уголков древней Москвы. Рядом находилось Воронцово поле – бывшая Воронцовская слобода, учрежденная Иваном Грозным. А еще раньше на склоне, шедшем к реке Яузе, жил царь Иван Третий после пожара московского кремля. Кругом тогда еще стояли леса. В XVI веке здесь построили церковь с колокольней и провели оттуда на восток переулок, названный Подколокольным.
Позже весь участок города стал купеческим, обстроился особнячками с садами при них и домиками поскромнее. И сейчас, на нескольких фотографиях переулка, размещенных в Интернете, можно увидеть между солидных построек XIX века два двухэтажных домика, крашеных в желтый цвет. В первом этаже одного из них мы с Лилей поселились в конце лета 1943 года.
Наша хозяйка, женщина одинокая, занимала две комнаты в темноватой, но довольно уютной квартире. В комнатке для студентов на месте бывшего резервуара ванны стояла железная кровать с тонким матрасиком, где мы ухитрялись спать вдвоем. Рядом стояли небольшой столик и два стула.
На кухне нам разрешалось умываться, готовить и даже держать продукты. А в коридоре – умеренно пользоваться телефоном за небольшую доплату.
К обычному месячному набору хлеба, крупы, яичного порошка, мясных консервов, хлопкового масла и карамели, заменяющей сахар, по продовольственным карточкам теперь полагалась даже бутылка водки.
Хозяйка вместо нас охотно ходила на рынок, чтобы обменять этот ценный продукт на картошку. За бутылку давали несколько килограммов картофеля, и мы честно делились с нашей добровольной помощницей. Довольная такой щедростью, она разрешала шестерым нашим друзьям набиваться в тесную комнатушку и просиживать до позднего часа в разговорах, а порой и в полу серьезных, полу шутливых спиритических сеансах.
Надо сказать, мы очень рисковали, проводя вечера таким образом. За студентами была налажена слежка, среди них органы искали инакомыслящих, и кое-кто из ребят со старших курсов уже попал за решетку. Но нас, зеленых второкурсников, не трогали.
Сколько ни старались, мы не могли вычислить возможного осведомителя среди студентов нашей группы, и я почти уверена, что таких среди нас не водилось. Так что мы жили спокойно, с радостью погружаясь в глубины гуманитарных наук.
Лекции нам читала блистательная плеяда профессоров.
Мы с Лилей писали родителям, что устроились прекрасно, довольны жизнью и учебой. И я могла сообщить Шифриным, вернувшимся с театром в Москву, то же самое.
Все было замечательно, пока не началась осень. Пошли дожди, похолодало, начались ночные заморозки. Мы приходили домой в мокрой обуви, дрожа от холода, и долго не могли согреться.
Арендуя нашу келью летом, мы в порыве радости не обратили внимания на то, что в ней нет хотя бы маленького оконца, нет отопления. Теперь мы особенно ясно почувствовали и недостаток свежего воздуха, и сырость стен бывшей ванной комнаты, покрытых масляной краской.
И вот пришел тот несчастливый день, когда я заболела жестоким бронхитом.
Дядя с тетей начали беспокоиться, отчего я долго не звоню им, не рассказываю о своих делах, и однажды вечером послали Тату посмотреть, что со мной происходит.
На другой день утром она еще раз приехала, теперь для того, чтобы забрать меня на улицу Дурова, где тетушка уже обдумывала, как меня лечить. Так началась совсем новая полоса в моей московской жизни.
* * *
До сих пор, рассказывая о своих кратких поездках к Шифриным и о встречах с ними в Свердловске, я ни словом не обмолвилась об истории жизни этих двух художников – дяди Ниссона и тети Маги.
Теперь, когда они на правах близких родственников забрали меня к себе, оба деликатно и ненавязчиво проявили в отношении ко мне поистине родительскую заботу. И я стала, пусть на время, членом этой замечательной семьи.
В комнате Таты, где вместе с ней уже жила старенькая матушка тети Маги, поместили еще одну постель. В те военные годы многие семьи жили кучно, многие принимали лишившихся крова родных.
Но для такой погруженной в творчество семьи, как Шифрины, приют и забота о больной племяннице были некоторой жертвой. Я это прекрасно понимала, хотя ничем и никогда мне не давали ничего подобного почувствовать. Более того, тетя Мага требовала, чтобы я считала квартиру на улице Дурова своим домом.
В наших семейных анналах бытовал рассказ о том, что молодые Ниссон Шифрин и Маргарита Генке познакомились как-то летом, во время сильного ливня, в одной из киевских подворотен, где прятались от дождя еще несколько киевлян. Дождь затянулся, они разговорились и вскоре обнаружили общность интересов.
Оба занимались в то время в художественных студиях, посещали художественные выставки, но еще не были знакомы друг с другом.
Начались встречи, совместное посещение симфонических концертов и вечеров поэзии. Легкое знакомство перешло в дружбу, а потом пришло и решение пожениться.
К этому времени Ниссон успел окончить киевское Коммерческое училище и Коммерческий институт, а Маргарита – Художественное училище и Художественный институт. Она занималась также в студии ученика Репина – Александра Александровича Мурашко, в которой еще раньше, но тоже одновременно с учебой в Коммерческом институте, недолго учился Ниссон.
В те годы – примерно с 1908 по 1917 – бурно развивались художественные связи киевлян с художниками-экспериментаторами Москвы и Петербурга.
Александра Экстер участвовала в выставках вместе с Ларионовым, Гончаровой и Бурлюком.
Замечательный художник и педагог, Экстер руководила в Киеве художественной студией. Здесь бывала Маргарита, здесь занимался, а потом и работал некоторое время Ниссон.
Отец Ниссона в конце концов примирился с тем, что сын не пошел по коммерческой части. Он, правда, немного поработал статистиком и отслужил положенное время в армии, зато потом полностью отдался искусству, к которому имел тягу с малых лет.
Однако когда речь зашла о женитьбе, родители потребовали, чтобы церемония прошла по еврейскому обряду. Я не имею понятия, как он происходил тогда в Киеве, помню только, что, когда заходил разговор об общей молодости молодых киевлян Ганкиных и Шифриных, моя мама восхищалась решительностью невесты, которая, не задумываясь, выполнила все свадебные предписания чужой для нее религии – иудаизма – важные для родителей жениха.
Мои папа и мама, таким же образом венчавшиеся немного раньше, в это время уже покинули Киев. Женитьбу Ниссона и Маги они одобряли.
Маргарита Генриховна Генке происходила из дворянской семьи, где сплелись в прошлом русские и шведские корни. Она родилась в Москве, но по причинам, которые мне неизвестны, в юные годы переехала с семьей в Киев.
Ниссон не обладал такой престижной родословной, но то, что он родился в 1892 году, благополучно рос и учился в Киеве, безусловно, значило, что и его отец имел там право на жительство.
На первые годы совместной жизни Ниссона и Маги пришлось много волнующих событий. В Киеве после октября 1917 года часто менялась власть, одни армии приходили, обещая населению благоденствие, другие выбивали первых из города и бесчинствовали.
В обстановке междувластия и беспорядков учинялись погромы. Стрельба и всяческие безобразия иногда не прекращались неделями.
И, тем не менее, Киев стал в это время крупнейшим центром художественной и театральной жизни.
Сюда съезжались люди, известные в культурной среде Москвы и Петербурга, где тоже было очень тревожно. Они искали более спокойных возможностей для реализации своих новых творческих идей. Среди них были и те, кто мечтал и о развитии еврейской художественной культуры.
Ниссон Шифрин еще вначале 1910-х годов был увлечен искусством и литературой футуристов. Далеко не бесследно для него прошла в 1914 году встреча с Маяковским и Бурлюком, которые приехали в Киев, чтобы провести эпатажный вечер в соответствующем художественном оформлении. Его исполнили вполне в футуристическом духе два молодых живописца: Ниссон Шифрин и Исаак Рабинович.
В 1919 году состоялось знакомство, потом началась дружба Ниссона с Ильей Эренбургом: он создал декорации к его пьесе «Рубашка Бланш» в весьма авангардной постановке режиссера К. Марджанова.
В Центральный Государственный Архив Литературы и Искусства – ЦГАЛИ – моя кузина Тата (пора сказать, что это домашнее детское имя долго заменяло данное ей при рождении имя Анна) после смерти дяди и тети передала их ранние работы, созданные в те бурные для искусства годы. Именно туда они были отданы потому, что советские музеи еще вовсе не интересовались русским художественным авангардом. Не родился даже этот термин. Он возник после того, как в 1962 году появилась книга английского искусствоведа Камиллы Грей «Русский эксперимент», но читали ее немногие.
А пока – все, что не являлось вполне социалистическим реализмом, считалось формализмом, с которым усиленно боролись администраторы от искусства. И акцентировать на этих произведениях внимание официальной критики, конечно, не следовало.
Открыл и опубликовал рисунки дяди, созданные в конце 1910-х – начале 1920-х годов, Гриша Казовский, муж моей младшей дочери Лели, когда занялся историей Культур-Лиги и творчеством художников этой организации, возникшей в Киеве в 1918 году.
В 2003-м он выпустил книгу «Художники Культур-Лиги». Наряду с творчеством таких замечательных художников, как, например, Эль Лисицкий, Натан Альтман, Александр Тышлер, Иосиф Чайков, он исследовал весь ранний период творчества Ниссона Шифрина.
Естественно, что мое даже самое начальное соприкосновение с историей искусства в университете вызвало в доме Шифриных живое участие и желание посвятить во многое, о чем на искусствоведческом факультете не говорилось и в лекциях не читалось. И когда выпадали для нас всех редкие часы общения, я узнавала то от дяди, то от тетушки о важных событиях в их жизни. Все частное здесь теснейшим образом связано было с общим течением событий в искусстве.
И ранние годы творчества вспоминали они часто с ностальгическим чувством причастности к делам и надеждам революционных лет.
О многом таком, пережитом вместе, оба рассказывали охотно. Меня интересовала, например, обстановка в Киеве, где жили в юности и мои родители. В отличие от Шифриных, они не были вовлечены в революционные изменения в культуре и жизни.
Папа искал делового и семейного благополучия в Киеве, а затем в Петрограде и Москве не в революционных преобразованиях, а независимо от них. Ниссон с Магой, наоборот, явственно приняли революцию и хотели ей служить.
В 1920 году, они, невзирая на опасности гражданской войны, оба работают в агитпоезде 12-й армии на польском фонте. Пишут лозунги и плакаты. Оформляют выездные спектакли. Оба вспоминали об этом с искренним удовольствием.
Но о своем участии в создании в Киеве в 1918 году уникального объединения еврейских художников «Культур-Лиги» дядя умалчивал. В 1943-м об этом говорить не стоило, так же как показывать на выставках такие его рисунки, как, например, «Чтение Торы».
Сороковые годы были не лучшим временем для разговоров и даже воспоминаний о еврейском искусстве и об энтузиазме группы художников, пытавшихся его развивать.
По всем признакам в общественном сознании и в политике партии намечались проявления антисемитизма. Да и в конце пятидесятых рисунки на еврейскую тему вполне могли быть квалифицированы как образцы еврейского национализма – по меньшей мере.
К началу 1920 года многие киевские друзья Шифриных – художники и литераторы – перебрались в Москву.
Мои родители жили на Кривоарбатском, когда дядя приезжал из Киева знакомиться с московской художественной жизнью. В 1922-м он окончательно решил обосноваться в столице. Сначала семья Шифриных с годовалой дочкой жила в пригороде. Перловка, которая теперь разрослась и стала маленьким городком-спутником, каких много под Москвой, тогда была еще большой деревней, но они любили ее за обилие зелени и чистый воздух.
Два живописных полотна, написанных дядей уже в Москве, очень занимали, по рассказам моей мамы, внимание родных.
Первое – дальний вид только что открытой Сельскохозяйственной выставки, которая располагалась тогда в Парке культуры. Его дядя написал с нашего балкона на седьмом этаже.
Вторая картина отличалась своим необычным для слуха названием: «Бегу на работу и усталый возвращаюсь домой». Скорее всего, здесь отразилось воспоминание о зимней Перловке.
Вот оттуда-то семья дяди и перебралась в Чистый переулок, куда, приезжая с родителями из Ленинграда, я так любила приходить.
Об этом балконе, единственном в доме №3 на Кривоарбатском, с которого дядя писал свои этюды Москвы, я тоже много слышала от родителей и от Нади, но никогда не могла его снизу, с тротуара, как следует рассмотреть.
Случай представился в 1980-х годах – и совершенно уникальный. Вместе с моим другом и коллегой американским искусствоведом Джеймсом Фрейзером я была в гостях у сына архитектора Константина Степановича Мельникова в знаменитом «Доме Мельникова» в Кривоарбатском переулке.
Мы обходили весь необычный интерьер дома, с каждым шагом осваивая его причудливое внутреннее пространство. В одном из окон последнего этажа с видом на начало переулка я четко увидела весь фасад дома номер 3 и венчающий его полукруглый балкон с узорной чугунной решеткой. Он был действительно очень красив. Именно тогда я впервые по-настоящему задумалась о том, что надо бы когда-нибудь написать о жизни моих родителей.
Все двадцатые и тридцатые годы Шифрины много работали. Сначала – в издательствах. Их иллюстрации к детским книгам и авторские книжки-картинки вошли в историю этого своеобразного жанра искусства.
В станковой живописи дядя достаточно ярко проявил свои авангардные воззрения, насколько позволяли условия после ликвидации всех творческих объединений и Общества станковистов, к которому он принадлежал.
Постепенно театрально-декорационное искусство стало главной областью интересов его и Маргариты.
Тетушка оформила много спектаклей в Центральном детском театре, в ТЮЗе и театре Ермоловой, дядя работал в Московском художественном театре. И, наконец, в 1935 году он окончательно связал свою творческую судьбу с Центральным театром Красной армии, где стал главным художником и где во многих постановках участвовала как автор костюмов и части оформления тетушка – верный его помощник и первый критик.
Тетушка никогда не жила и не работала в тени своего успешного, талантливого мужа. Ее собственный талант был не только самобытным, но и достаточно мощным, чтобы исполнять совсем не камерные, а наоборот, монументальные произведения.
В 1938–39 годах она написала для Всемирной выставки в Нью-Йорке четыре диорамы: «Старая и новая деревня». Эти вещи требовали серьезных навыков работы в станковой живописи, и несомненно, что прочная реалистическая школа Мурашко ей эти навыки дала.
Разумеется, именно тетушка создавала ту атмосферу душевного комфорта, общего взаимопонимания и любви, какие царили в семье Шифриных. Ее твердый характер и редкого достоинства стать – один из результатов, наверное, строгого дворянского воспитания – органически сочетались с мягкостью движений и нежными линиями красивого лица. Эти качества, также как спокойствие интонаций низкого голоса, слегка подточенного курением, и уверенность суждений, внушали окружающим ощущение устойчивости семейного мира.
Она была гостеприимной и хлебосольной хозяйкой, независимо от того, трудные или легкие стояли на дворе времена. Ее дом всегда притягивал целый сонм друзей – художников, театральных актеров, литераторов и друзей дочери.
Живя у Шифриных, я постепенно погружалась в уникальный круг этого содружества. Здесь блистали такие звезды культурного Олимпа, как Илья Эренбург, Владимир Татлин, друзья дяди по Обществу станковистов – Андрей Гончаров и Юрий Пименов, скульптор Сарра Лебедева. И, конечно же, замечательные театральные режиссеры Алексей Дмитриевич Попов и Мария Иосифовна Кнебель – дочь знаменитого издателя Иосифа Кнебеля.
Вечера и семейные обеды, полные разговоров об искусстве и рассказов о театральной жизни в компании таких замечательных людей стали для меня совершенно уникальной школой, быть может, еще более ценной, чем школа университетская.
Достаточно сказать, например, что о современной французской живописи я слушала рассказы Ильи Эренбурга. Свои живые парижские впечатления о созданиях импрессионистов и постимпрессионистов, о дружбе с великим Пикассо и другими, он излагал гораздо охотнее, чем впечатления от посещения фронта или оккупированных немцами территорий, где бывал по долгу журналиста.
Бытовой уклад Шифриных был похож на наш уклад в довоенном Ленинграде. Тот же строгий распорядок дня, то же отношение к чистоте и порядку в квартире, к общим трапезам и к сервировке стола.
Здесь, правда, этот стол в отсутствие гостей легко превращался в место для рисования или просмотра эскизов, а в тихие часы отдыха служил тетушке для раскладывания пасьянса, в чем она была непревзойденной мастерицей.
Некоторые просмотры, в которых и я участвовала, врезались в память – настолько они были для меня значительны. Прежде всего – цветные эскизы театральных декораций и костюмов знаменитой Александры Экстер – учителя и коллеги дяди Ниссона, оставшейся в Париже.
Она не вернулась оттуда после поездки на выставку в 1923 году, а 1930-м приняла решение остаться во Франции, и по порядку, установленному в высших политических сферах, негласно выпала из истории советского искусства.
Такое же сильное впечатление производили десятки рисунков и акварелей, сделанных дядей летом 1943 года в Сталинграде, освобожденном советскими войсками. Это был какой-то трагический портрет развалин – не города, а того, что от него осталось.
Дядя готовился тогда к оформлению спектакля Ю. Чепурина «Сталинградцы» в театре Красной армии. Глазом театрального художника он сразу увидел в мертвом пейзаже драматическое лицо будущих декораций.
Позже, по дороге в Университет, у перехода через Садовую улицу у Самотечной площади, я увижу бесконечные колонны пленных немцев. Больше пятидесяти с половиной тысяч немецких солдат проведут советские солдаты по Ленинградскому проспекту и улице Горького, а затем по Садовому кольцу.
Эти два таких разных впечатления: образ мертвых развалин и поверженной военной силы – сольются в моем сознании в одно общее напоминание о страшной битве на Волге.
Когда Тата привезла меня, больную, на улицу Дурова, молочнице заказали еще поллитра молока в дополнение к обычной семейной норме. Дяде поручили ежедневную покупку боржома из театрального буфета. Этой гремучей смесью горячего молока с боржомом тетушка, со свойственным ей педантизмом, вылечила меня от бронхита, и я вернулась в университет. Но речь о возвращении в комнатушку на Подколокольном даже не возникала.
По утрам мы с Татой вставали раньше всех и завтракали на кухне. В этом маленьком царстве Веры Филипповны, верной многолетней помощницы тетушки, растившей Тату с малых лет, был уютный уголок, где мы усаживались на диванчик и болтали.
К весне 1944 года с продовольствием стало легче, на рынке продавалась не только картошка, но и разные овощи, сухие грибочки и коренья, настоящие яйца, а не порошок. Вера Филипповна квасила капусту, варила вкуснейшие супы, а нас в обязательном порядке кормила кашей.
По карточкам теперь можно было купить немного сливочного масла, сахар, крупу, бывало даже мороженое мясо. А в театре у дяди продавались американское какао и натуральный кофе в зернах.
Зеленые зерна тетушка жарила в духовке на большом противне, а потом молола на старинной ручной мельнице. Душистый, волшебный запах кофе провожал нас даже на выходе из дома.
Тату определили в Государственный институт театрального искусства, где она училась на театроведческом факультете, а меня – в университет. Теперь мы учились не в школе на Большой Бронной, а в старом классическом здании на Моховой.
В университет я любила ходить пешком: по ближнему бульвару на Самотечную площадь, потом – на Цветной бульвар, оттуда разными улицами и переулками – к Манежной площади.
Мне нравилось чувствовать себя москвичкой, и я продолжала осваивать тот город, где когда-то жили счастливо мои молодые родители, где росла сестра Надя.
Давно уже нет той старой Москвы 20-х годов, нет даже той, по которой я бродила в военные годы с друзьями-студентами. В переулках вокруг Арбата и Пречистенки, названной позже Кропоткинской, или Остоженки, с ее новым названием Метростоевской, еще можно было найти немало старинных усадебок и особнячков в стиле московского ампира, отстроенных после войны 1812 года.
В некоторых остались повреждения со времен гражданской войны 1918–21 годов, в других разместились коммунальные квартиры. Но внешний вид большинства этих очаровательных строений, их типичная желто-белая окраска сохранились, и можно было читать по ним не только историю московской архитектуры первой четверти XIX века, но и историю жизни целого поколения героев «Войны и мира» Толстого или литературы пушкинской поры.
Иногда мы заходили далеко от Моховой, и больше всего любили весной, забрав с собой тетради и учебники, идти на Воробьевы горы. В 1936 году их тоже переименовали в Ленинские горы, но старые москвичи, точно так же как коренные ленинградцы, не жаловали все эти новые названия. Дорогу на Воробьевы горы мы выбирали через Калужскую улицу, Нескучный сад.
Поднимаясь оттуда на площадь, где заканчивался архитектурный ансамбль новых домов Академии наук и деятелей советской культуры, мы не подозревали, что в одном из них находится «шарашка», где работали на государство, отбывая свой каторжный срок, ценные специалисты, вроде тех, что описаны в романе Солженицина «В круге первом».
По правую руку от Калужской начинался берег Москвы-реки, поднимался все выше, шел среди деревьев, напоминая о том, что когда-то стояли здесь и вовсе дремучие леса. И на самом верху, где, как известно, клялись в верности народной свободе Герцен и Огарев, не было еще никакой смотровой площадки.
Шумели на ветру березы и тополя, и одиноко стояла на гребне возвышенности Церковь Троицы Живоначальной, в которой Кутузов молился перед Бородинским сражением.
Не было еще тут на склонах никакого трамплина или других спортивных сооружений. Внизу у излучины Москвы-реки чернели Лужники.
О строительстве стадиона тоже еще не думали. Давным-давно здесь были заливные луга, после спада разлившейся речной воды в них оставались небольшие озерца и лужи.
В XV веке образовалось сельцо Лужниково, которое заселялось весьма медленно. Позже местные купцы сдавали здесь в аренду заливные земли под огороды, построили мелкие фабрички и дома для рабочих.
Так позднее образовался сырой болотистый городской район Лужники, с бесформенной кучей ветхих строений и сомнительной уличной репутацией.
* * *
27 января 1944 года в Москве прогремел салют по случаю снятия блокады Ленинграда. В самом Ленинграде его произвели чуть позже: 2 февраля. Потом, как и другие победные салюты, ленинградский салют можно было посмотреть в кинохронике.
Все меня поздравляли. Я чувствовала себя виноватой в том, что покинула город, и вместе с тем понимала, что слишком многое уже привязывает меня к Москве.
Постепенно в Ленинград по вызовам учреждений стали пускать эвакуированных. «Ленпроект» возвращал на рабочие места архитекторов и других сотрудников.
Надя оставила службу в Свердловске и уехала домой. Вскоре ей разрешили вызвать из эвакуации родителей с дочерью.
Папа собрался в обратную дорогу из Фрунзе, намереваясь непременно сделать остановку в Москве, чтобы посмотреть, как я живу.
Я с волнением ждала встречи с родителями, по которым очень скучала. Решено было остановиться на Кривоарбатском, у Коганов, чтобы не беспокоить Шифриных, не нарушать их покой и домашний распорядок. Этот день, проведенный в давно родной, хотя и не родственной для нас семье, неожиданно изменил мое дальнейшее московское существование.
После долгих взаимных рассказов о том, что было пережито всеми за три военных года, папа и Осип Владимирович, на правах семейных старейшин, решили, что пришла пора освободить дядю Ниссона и тетушку от забот обо мне, и передать эту миссию на Кривоарбатский. С тем папа с мамой отправились на улицу Дурова и горячо поблагодарили Шифриных.
Спираль семейной истории сделала очередной виток, как будто возвращая нас всех в давние довоенные годы. Во время большого праздничного обеда по случаю встречи я все время смотрела на папу и Осипа Владимировича. В 20-х годах обоим было немного за тридцать, теперь – за пятьдесят. Оба друга и бывших компаньона беседовали между собой так, как будто не расставались.
За столом сидели их жены – теперь уже бабушки, рядом Геся – молодая вдова и мать двух маленьких сыновей. Ее любимый младший брат Толя, и Костя, отец ее мальчиков, погибли на фронте, так же, как наш Исаак, Надин муж.
И все-таки вся эта новая застольная конфигурация означала, что жизнь продолжается.
После обеда папа объявил мне, что я остаюсь жить у Коганов, и авторитет Осипа Владимировича будет для меня равен его отцовскому авторитету.
При всем годами сложившимся взаимопонимании, они были очень разные – эти два друга, и Осип Владимирович, несомненно, играл в их тандеме ведущую роль. Он обладал поистине несокрушимым характером и редкой силой воли.
После того, как служба в кондитерском тресте завершилась, оба, каждый по-своему, служили в советских учреждениях и большую часть времени и внимания отдавали семье, устройству домашнего очага, растущим детям.
Пришла война и потребовала от них неординарных решений. После первых бомбежек Москвы Осип Владимирович сразу решился оставить московскую квартиру и спасать семью.
В июле часто спускались в бомбоубежище, во время одного воздушного налета Геся с маленьким сыном оказалась под завалом, и только по счастливой случайности всех, кто там пережидал бомбежку, удалось освободить и вывести на улицу.
Размышлять больше было не о чем. Осип Владимирович собрал в дорогу жену, дочь, годовалого внука, оставил уютную московскую квартиру и увез всех в Казахстан. Там еще до войны на строительстве железной дороги «Акмолинск-Карталы» инженерные работы вел старший сын Коганов – Даня.
В военном городке недалеко от Акмолинска стояла механическая колонна, инженеры и рабочие жили в домах комсостава. Но никакие удобства не могли избавить москвичей от тоски по родному дому. Ощущение полной оторванности от привычной жизни не оставляло ни на час. Кругом была степь, вспоминала потом Геся, и от этой картины веяло безысходностью.
Военный городок вскоре освободили от строителей. Его снова заселили военные. Нужно было искать жилье. Осип Владимирович без сожаления расстался с частью привезенных домашних вещей и купил на вырученные от продажи деньги небольшой саманный домик на окраине Акмолинска.
В нем семья прожила до весны 1943 года. Механическая колонна направлялась на новое строительство – под Москву. Оттуда не без труда Коганы добрались, наконец, до дома.
Рассказывая о своих переживаниях начала войны, Геся очень верно описала чувство, которое испытали, думаю, все, кто 22 июня слушал речь Молотова. Это было чувство конца, понимание необычайного разлома, который сразу отделил наше довоенное прошлое от того необычайного, неизвестного, что теперь всех ожидало.
Я тоже испытала это страх конца. То же самое чувствовали, конечно, наши родители, и все, что случилось потом, подтвердило верность общей интуиции.
Папа, под влиянием уникальных обстоятельств ленинградской блокады, не сразу справился с ощущением гибели всего прожитого и нажитого. И едва не потерял жизнь. Осипу Владимировичу помогли устоять более благополучные условия ранней эвакуации из Москвы.
Вернувшись из Акмолинска, Коганы нашли свою квартиру разграбленной. Люди, которых поселило здесь домоуправление, присвоили все носильные вещи уехавших хозяев, книги и ноты сожгли, крышку рояля испортили, когда ставили на нее горячие кастрюли, бутылки и прочую посуду.
Опустошили сундук с вещами старенькой няни.
На месте осталась только мебель. Но все это казалось пустяком по сравнению с гибелью Кости и Толи.
Анна Исидоровна с Гесей постепенно придавали жилищу прежний вид. Нашей Оленьке, которую радушно приветили Коганы, квартира показалась дворцом. После всех экзотических жилищ во Фрунзе ее поразили высокие потолки, двустворчатые двери, красивые занавеси на больших окнах столовой. Спальный и обеденный гарнитуры напоминали все любимое, ленинградское.
Теплую атмосферу любви друг к другу, которая всегда отличала старших Коганов, их общую любовь к младшим военные лишения и горе сделали еще сильнее.
Я, оторванная от своих родных, очень скоро почувствовала, что полностью принята в это теплое семейное окружение, хотя появилась на Кривоарбатском в нелегкое для семьи время.
Коганы пытались наладить хоть какие-то заработки, но надежная работа оказалась только у Геси в музыкальной школе, и поначалу она стала главным кормильцем семьи.
Осип Владимирович не искал службу, он чувствовал, что нужен дома, и делал для дома все, что мог.
Надо было добывать продукты, чтобы кормить мальчиков: четырехлетнего Володю и годовалого Витю, родившегося уже в эвакуации.
О себе взрослые думали меньше всего. Между тем, они тоже нуждались в поддержке. Все физические и душевные силы, которых целиком потребовала от Осипа Владимировича жизнь в Казахстане и возвращение семьи в Москву, постепенно иссякли, наступила реакция, физическая слабость. Оказалось, что он, мужественно перенося сердечную боль, пережил на ногах инфаркт.
Мои родители уехали. Я обещала дяде с тетушкой Шифриным, что буду у них часто бывать, упаковала свои нехитрые пожитки и с чувством какого-то особенного покоя провела первую ночь у Коганов.
Здесь все напоминало мне веселые довоенные встречи, детские игры с Толей, наши с ним взрослые разговоры перед войной.
Конечно, я думала в эту ночь и о том, что где-то на верхних этажах этого дома жили давным-давно молодые папа и мама с Надей. Вспоминала рассказ о знаменитом визите матроса с ордером на комнату в папиной квартире.
Геся успела рассказать мне, что тот матрос со временем успешно окончил медицинский институт и стал практикующим врачом.
Меня устроили на диванчике в Гесиной комнате, где раньше спал маленький Володя. С появлением младшего брата его переселили на диван в столовой. Худенький Витя спал теперь вместе с Гесей и был этим вполне доволен. А мы с ней все не могли наговориться, когда, уложив мальчиков, сами ложились спать. Рассказывали друг другу обо всем, чем и как жили за прошедшие годы в Москве и в Ленинграде.
До войны Надина сверстница и подруга Гесинька Коган существовала в моем представлении и памяти как бы в двух ипостасях.
Одна – Геся в Анапе, на берегу моря. Юная хохотушка с иссиня-голубыми глазами, золотыми кудряшками и толстой косой невероятной длины. Другая – в Ленинграде. Кажется, году в 1934-м она приехала погостить к своей тетушке Ролли Исидоровне, пианистке, которая была замужем за известным концертирующим тенором Чаровым. Ролли жила рядом с нами на Троицкой улице в том самом знаменитом доходном доме, который почему-то назывался «Домом Толстого», и мы виделись с Гесей то там, то у нас.
Первым потрясением оказалась для меня тогда Гесина короткая прическа. Знаменитая коса стала старомодной и исчезла навсегда. Да и сама Геся казалась какой-то новой, вызывающе современной. Одета она тоже была так, как в Ленинграде еще не одевались, много рассказывала о Москве, и мне определенно казалось, что настоящая живая, полная событий жизнь происходит там, а у нас в Ленинграде все тянется без каких-либо новшеств, медленно, как в глубокой провинции.
Через несколько лет, когда я сама попала в Москву на каникулах, эти впечатления подтвердились не только в наших путешествиях с Татой по московским театрам и музеям, но и во время встречи на Кривоарбатском с Толей Коганом.
Он читал мне стихи незнакомых поэтов и рассказывал о своей бурной школьной жизни. На фронт он попал из военного училища. В 1942 году успел прислать домой свою фотографию. Фронтовой фотограф снимал его после ранения и лечения в госпитале. С веселой улыбкой, в светлом полушубке и шапке, в звании лейтенанта.
Костиных фронтовых фотографий у Геси не было. Он вообще попал на фронт по нелепому случаю. В первые дни войны вместе с другими студентами консерватории виолончелист Костя Легошин записался в добровольческий отряд, который воевал недолго.
Студентов вернули в Москву, когда Московскую Консерваторию решено было эвакуировать в Саратов. Коганы в это время уже жили в Акмолинске, и Костя приехал туда, имея на руках «броню» – освобождение от военного призыва.
Он хотел забрать жену и сына в Саратов. Однако семья, уже пережившая трудную дорогу в Казахстан, воспротивилась новому переезду Геси с ребенком в Саратов, и Костя остался в Акмолинске.
Там молодые казахи всячески отлынивали от службы в армии, город не выполнял мобилизационную норму, и, невзирая на полное освобождение, Костю отправили без обучения и военной подготовки прямо на фронт, по сути – на верную гибель.
До войны жизнь Геси протекала вполне ровно и благополучно. Школьные годы прошли примерно так же, как Надины – тот же бригадный метод обучения, так называемый Дальтон план, сельскохозяйственные работы вместо работы на фабрике и даже некоторая педагогическая практика ввиду нехватки в Москве школьных учителей.
Свое раннее музыкальное образование она успешно завершила в музыкальном училище, потом поступила на музыкально-педагогический факультет Московской консерватории. Еще в училище завязалась ее дружба со струнниками – скрипачами и виолончелистами. Избранником среди них стал Костя Легошин.
Они поженились еще студентами. Это был счастливый, яркий союз двух красивых людей, хорошо понимающих друг друга музыкантов. В 1940 году у них родился первый сын, названный Володей в честь отца Осипа Владимировича.
Сообщение о гибели Кости получили в Акмолинске, когда Геся уже ждала второго ребенка. Маленький Витя родился слабеньким, но в Москве начал быстро поправляться. Его вывозили гулять в Гесиной коляске для куклы: эта довоенная парижская коляска не привлекла внимания военных грабителей.
Войти в суть и смысл повседневной жизни Коганов было не трудно. Для того, чтобы накормить, одеть и развивать детей, требовались немалые средства, одной Гесиной зарплаты не хватало.
К счастью, Малому театру требовалась опытная машинистка. Анна Исидоровна мастерски владела этим кормящим инструментом. Разного рода документы и пьесы присылали ей для перепечатки домой.
С утра до вечера стрекотала на столе в столовой пишущая машинка. Звучал густой басовитый голос Осипа Владимировича, который диктовал сложные тексты.
Часто, бывая в такие часы дома, я смотрела на эту пару, вспоминая мамины рассказы об их общей молодости. Анна Исидоровна, все еще красивая, излучала, как всегда, доброту и нежность. Они до сих пор называли друг друга только «Анюточка» и «Осипка».
У Осипа Владимировича на крупном, уже морщинистом лице по-прежнему сияли нежно голубые глаза. Все еще высокий, он казался как прежде могучим, но это только казалось. Возраст и гибель сына заметно согнули его.
Геся, кроме полной педагогической нагрузки в музыкальной школе, обшивала мальчиков, читала им, играла с ними, готовила еду, да еще всякую свободную минуту помогала Анне Исидоровне печатать.
Помощницей по хозяйству старенькая няня прислала в дом свою племянницу Ксению. Весьма своеобразная особа, она вносила в трудный быт немало суеты, но не жалела сил на ходьбу по магазинам, стирку и уборку. Так шла ежедневная борьба семьи за существование, такая же, как во многих малообеспеченных московских семьях. Здесь не было солидных доходов, специальных пайков и возможностей систематически пользоваться рынком или продуктами недавно открывшихся коммерческих магазинов.
Если у Шифриных я проходила школу искусства и своего рода практику светского общения, то здесь была ни с чем не сравнимая школа выживания. Без жалоб, без раздражения, совершенно безотказно любой домашней работой занимались с раннего утра все.
Помогала близость к дому магазинов, куда «прикрепляли» продовольственные карточки. Одна из лучших, когда-то знаменитых Филипповских булочных, находилась почти напротив, недалеко был и продовольственный магазин.
Очереди принимали за неизбежное зло, но не жаловались. Недостатки в питании воспринимались с юмором. Уповали обычно на картошку. Она заменяла и мясо, и рыбу. То, что удавалось получить на талоны – отдавалось детям.
В обиход взрослых вводились своего сочинения деликатесные блюда: «Фальшивый заяц» (картошка с жареной морковью и луком), «Фиш картошкес» (она же, только с добавлением лаврового листа), «Картошечка-горох» (она же, только мелкая, в мундире, обжаренная до румяности на растительном масле).
Так встретили осень и зиму. Дети заметно окрепли.
Третий курс на моем искусствоведческом отделении был одним из самых интересных. Искусство средневековья, русская архитектура XVIII века с выездами в Подмосковье, французский язык, который наша преподавательница, прожившая много лет в Париже, вела на примере поэзии XIX–XX веков – все это было необычайно увлекательно.
Я уходила в университет рано, долгими часами сидела в библиотеке и приходила, когда уже основное население квартиры укладывалось спать. Но Осип Владимирович никогда не ложился, не дождавшись моего прихода. На кухне и в Толиной комнатке – бывшей людской, уютно горел свет, на плите стояла сковородка с жареной картошечкой-горохом, кипел чайник, и начинались наши длинные беседы вдвоем. О том, как прошел учебный день, какие курсы читались, с кем из друзей я встречалась. Последний вопрос обычно требовал подробного рассказа о каждом.
Самых близких друзей Осип Владимирович однажды предложил мне пригласить на чай, и с тех пор все Коганы были рады принимать студентов.
В доме и без того всегда бывали гости. Гесины друзья и родственники тянулись к Коганам, как когда-то в наш ленинградский дом.
А мы с Гесей продолжали, как будто заново, открывать друг в друге что-то, объединявшее нас. Десятилетняя разница в возрасте почти стерлась. Каждая приобрела за годы войны свой ни с чем не сравнимый горький опыт, который сближал сильнее, чем довоенные дружеские связи.
Так идет уже по накатанному порядку наша жизнь. Наступает, наконец, последний год войны. Последние месяцы зимы 1944-го и начала 1945 годов проходят относительно спокойно, если вообще может быть спокойной военная зима.
Но – это последняя зима войны. Самое постыдное в ней случилось еще раньше, в феврале 1944-го: выселение чеченцев и ингушей, кавказских народов, объявленных Сталиным врагами советской власти, в Казахстан и Киргизию. Затем в июне 1944-го выселение татар, греков и других не русских жителей из Крыма. Но об этом мы узнаем не скоро.
Все мысли москвичей заняты тем, что Красная армия уже воюет в Белоруссии, еще немного, и она освободит всю территорию СССР и войдет в Восточную Европу.
Открылся, наконец, второй фронт, союзники двигаются навстречу нашим войскам. 13–14 февраля 1945 года англичане бомбят Дрезден, ковровые бомбардировки разрушают промышленные здания, жилые дома, коммуникации и мосты через Эльбу.
В огненном смерче, который стоит над городом, гибнут сотни тысяч жителей и потоки беженцев, идущих на Запад. Через 25 лет Курт Воннегут опишет этот кошмар в своей знаменитой книге «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей».
Советские войска прошли Польшу, освободили большую часть Чехословакии. Впереди Берлин. Сводки с фронтов люди слушают с особым вниманием, и к началу весны ожидание конца войны становится все реальнее.
Я часто пишу домой в Ленинград и получаю письма от родителей. Иногда читаем их с Осипом Владимировичем вместе за нашим поздним ужином в кухне, остальным рассказываем.
Всех волнует устройство семьи в послеблокадном городе.
В нашу квартиру на Загородном проспекте тоже поселили чужих людей. Не тронута только комната, бронированная после ухода Исаака в ополчение. Надя заняла ее сразу после приезда и вернулась к работе в Ленпроекте.
В городе много разрушений, но восстановлены коммуникации, работает водопровод и отопление. Папа оформляет все необходимые документы для прописки семьи, получения продовольственных карточек, ищет работу. Мама налаживает домашнее хозяйство.
А у меня в Москве в университете идет весенняя сессия.
Предметы третьего курса все сложные, наша дружная компания с утра до ночи сидит за книгами.
После отличной сдачи экзамена по искусству средневековья я прихожу домой, ложусь спать и сплю восемнадцать часов подряд, не просыпаясь.
Так что вся семья напугана. Но это здоровый, освежающий сон. И надо готовиться к следующим испытаниям.
Идут неделя за неделей, месяц за месяцем и в апреле уже давно нет снега. Раньше светает, набухают почки на деревьях, пахнет настоящей весной.
Со дня на день ждут каких-то важных сообщений, потому что началась битва за Берлин. Все понимают, что в этой последней битве погибнет особенно много солдат. Только много позднее мы узнаем страшную цифру: 250 тысяч.
В ночь с 8 на 9 мая нам с Гесей не спалось. Сообщения двух предыдущих дней создавали какую-то особенную нервозность ожидания. Но в доме уже все спали, и мы тоже, наконец, улеглись.
На рассвете нас разбудила тишина. То ли прежде, вечно усталые, мы не просыпались так рано, то ли в весеннем воздухе стояла тишина, которая имела свой особый звук: полное отсутствие привычных уличного шума.
Уголок неба в окне нашей комнаты просветлел, заалела заря. Мы встали. В шесть часов должно было заработать радио.
Наконец, позывные Москвы громко раздались в уличных репродукторах на Арбате.
Мы включили домашнюю «черную тарелку». Голос Левитана объявлял о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии и о нашей победе.
После завтрака Геся одела мальчиков и вышла с ними на Арбат, а я помчалась в Университет. Улицы полны народу. Многие улыбались. Люди как будто почувствовали, что самое страшное кончилось, и начинается совсем другая, новая жизнь. По радио снова и снова повторялось сообщение Информбюро.
Часть третья
Новые времена
«Гвардия Лебедева»
Ленинград. Июнь 1945-го. Совсем недавно кончилась война. Победные салюты не уменьшили горечь потерь. Миллионы солдат пали на фронтах. Сотни тысяч жителей Ленинграда погибли во время блокады.
В зимние голодные дни декабря 1941-го умерли многие художники. Те из них, кому пришлось покинуть родной дом в первые военные месяцы, еще только возвращались в город – кто с фронта или из партизанских отрядов, а кто из эвакуации. И не окажись тогда в Ленинграде Валентин Иванович Курдов, не было бы ни моих встреч с замечательными ленинградцами, создавшими когда-то новую детскую книгу в России, ни этих записок.
Я оказалась едва ли не первым посланцем из Москвы, кому надлежало увидеть и разговорить шестерых единомышленников, что составляли когда-то ядро уникальной редакции ленинградского «Детгиза» под руководством Маршака и Лебедева. Написать о художниках небольшие очерки предложила одна из редакций ВОКСа для журнала, который распространялся во Франции. В не доброй памяти 1936 году их несправедливо обвинили в формализме и надолго выбили из творческой колеи. Нужно было попросить их рассказать о себе. Как выяснилось при первых же встречах, они были еще полны воспоминаний о довоенной жизни, хотя каждому досталась непростая военная судьба.
Выбор пал на меня, студентку третьего курса МГУ, потому что я на законых основаниях – с довоенной ленинградской пропиской и переводом из Московского университета в Ленинградскую Академию художеств – возвращалась домой, тогда как для иногородних город еще был закрыт.
В списке, который я получила, значились В. В. Лебедев, В. М. Конашевич, А. Ф. Пахомов, Е. И. Чарушин, Ю. А. Васнецов и В. И. Курдов. Поистине золотая плеяда.
Художники, о которых мне предстояло написать, совершили переворот в рутинном течении российского книгоиздания для детей. Созданные ими книги были только малой частью большого эксперимента, который они осуществили в живописи и графике. В 30-е годы, когда власти ликвидировали художественные группировки и вели борьбу со всеми отступлениями от соцреализма, станковые произведения этих мастеров нечасто показывались публике. Но их книги становились достоянием широкого круга читателей благодаря дешевизне и массовым тиражам. Речь теперь шла не о традиционной книжке с иллюстрациями, а о новом жанре книжного искусства: о художественной книге для детей.
1936 год оказался для ленинградской редакции трагическим. В главной партийной газете «Правда» появилась редакционная статья «О художниках-пачкунах». Владимир Васильевич Лебедев и группа работавших вместе с ним художников были объявлены «компрачикосами», калечащими души детей. Статью написал известный в журналистской среде заплечных дел мастер Давид Заславский, которому покровительствовал сам Сталин.
После редакционной статьи в «Правде» ленинградская редакция была ликвидирована, а издание иллюстрированных книг для детей поручено верному помощнику партии – Комсомолу. В Москве образовали новое издательство: Детиздат ЦК ВЛКСМ. Под соответствующим идейным руководством здесь работали московские иллюстраторы. Но без переиздания любимых детьми книг Маршака и Лебедева, Чуковского и Конашевича, Бианки и Курдова, рассказов и рисунков Чарушина, ставших классикой, московский портфель стал бы неполным.
Потом пришел сорок первый год, и война на некоторое время отодвинула борьбу с неугодной интеллигенцией. Но уже в первые месяцы мирного времени для партии и правительства стала актуальной идеологическая пропаганда в странах-союзниках и в странах Восточной Европы. Усиливалась работа разных обществ и учреждений, которые могли бы поддерживать образ СССР как освободителя мира от фашизма. Особенно активизировалась деятельность ВОКСа – Всесоюзного общества культурной связи с заграницей. ВОКС направлял в зарубежные страны выставки советского искусства, новые кинофильмы, книги и журналы на иностранных языках. Руководили этой деятельностью опытные партийные кадры.
И вдруг, в этой обстановке жесткого соблюдения партийной идеологии, кому-то приходит в голову пропагандировать во Франции наших «формалистов», по существу уничтоженных газетой «Правда»! Видимо, для соблюдения идеологического баланса московским студентам-искусствоведам, одновременно со мной, поручили написать о столичной элите художников-графиков, вполне признанной группе реалистов, работавших в новом московском издательстве. Таким образом, соблюдалось необходимое равновесие.
Надо сказать, что для культурной Европы новая детская книга в СССР была давно «открытой Америкой». Лучшие произведения ленинградцев с 1925 года экспонировались на разных европейских выставках. Достаточно назвать Международную выставку декоративных искусств и современной художественной промышленности в Париже, и особенно Международную выставку искусства книги в Лейпциге 1927 года. Потом последовали выставки в Голландии, Италии, Швейцарии, затем в Буэнос-Айресе и в Йоханнесбурге. И везде в числе самых ярких мастеров были представлены художники ленинградского отделения Госиздата – «Детгиза».
В 1997 году в Париже состоялась большая ретроспективная выставка. Ее богато иллюстрированный Каталог-словарь открыл широкий круг имен художников, в том числе и тех, кого прежде не экспонировали в СССР по цензурным причинам. Мне довелось участвовать в конференции, организованной к выставке. Молодые искусствоведы из Парижа исследовали новую детскую книгу России и СССР в контексте искусства русского авангарда.
* * *
Однако обратимся вновь к 1945 году. Я в Ленинграде. В первые же дни после приезда обошла пешком любимые улицы, площади, переулки. Многие разрушенные войной здания окружали строительные леса, реставраторы вынимали из глубоких подземных хранилищ знаменитые памятники работы прославленных российских скульпторов.
Наконец я иду по Невскому проспекту к его началу. Перед поворотом на улицу Герцена на стене дома знакомая надпись: «Эта сторона особенно опасна при артобстреле». Кто-то каждый день кладет на мраморную консоль свежие цветы.
На улице Герцена, в доме 38, в особняке бывшего Общества поощрения художеств, помещается Союз художников. Здесь мне предстоит найти адреса героев моих будущих очерков. Все они, как выяснилось, вернулись в Ленинград, кроме Владимира Васильевича Лебедева, который со времени эвакуации все еще оставался в Москве.
Среди жертв блокады было немало художников. Одиноко, в застывшей от мороза квартире в декабре 41-го умер Павел Николаевич Филонов. Алексей Александрович Успенский погиб в одной из бомбежек, умерли в годы блокады график Т. И. Певзнер, художники Д.Е. Загоскин, В.А Гринберг. В феврале 1942 года не вынес холода и голода Николай Федорович Лапшин. Николай Андреевич Тырса скончался в Вологде по дороге на Восток. Оба они, прекрасные живописцы и графики, были старшими в лебедевской когорте «Детгиза». Уходили многие, кто долго боролся за жизнь, и кого все-таки победила голодная смерть.
В доме на Герцена, 38 возникло совершенно уникальное сообщество. Его не учреждали ни городской совет, ни управление культуры. Сами художники создали в помещении своего союза, с небольшими выставочными залами и работающей литографской мастерской, дружеское пристанище для тех, кто не в силах был оставаться в одиночестве у себя дома. Здесь можно было устроиться на ночлег, а для тех, кто жил у себя в квартире и хотел общаться с коллегами, двери оставались всегда открытыми. Продолжала свою работу литографская мастерская, в которой еще со времени финской войны выпускались листовки «Боевого карандаша». Здесь же печатались открытки и плакаты. Те, кто еще мог рисовать дома и на улицах в трагической атмосфере осады города, устраивали свои маленькие выставки графики. Помещения кое-как обогревались, и пока это было возможно, организаторы пытались наладить общее питание для тех, кто уже не мог выходить на улицу.
И теперь, в июне сорок пятого, надо было, чтобы те, кто выстоял в блокаду, равно как те, кто вернулся с фронта или из эвакуации, получили нормальные условия для послевоенной жизни. Центром этой сложной, общественной заботы стала вдова Николая Андреевича Тырсы, Елена Александровна. Она исполняла в Союзе художников обязанности секретаря и помогала тем, кто вернулся.
В тесном от посетителей помещении с дверной табличкой «Секретарь» я увидела за столом хрупкую женщину средних лет. Характерную для ленинградцев бледность подчеркивали темные, на старинный манер гладко причесанные волосы. Глубокие черные глаза казались огромными на исхудавшем лице.
Где я видела это удивительно знакомое лицо? Скорее всего, ее портрет экспонировался на какой-нибудь из довоенных выставок здесь же, в залах ленинградского Союза.
Тогда в Ленинграде, сидя в кабинете Елены Александровны, я размышляла, конечно, не о портретах, а думала о том, как буду говорить с ней о своем деле. Елена Александровна с кем-то объяснялась, увидев меня, попросила присесть. Я рассказала ей о себе и о своем задании. Немного подумав, она сказала, что есть один замечательный человек, художник Курдов, который обязательно поможет мне встретиться со всеми, кто упомянут в списке ВОКСа. Она с ним поговорит и познакомит нас.
Наступил день, когда мы встретились с Валентином Ивановичем Курдовым в этой же секретарской комнате. Он вошел твердой энергичной походкой, плечом вперед. В своей видавшей виды кожаной куртке он показался похожим на охотника. Сразу протянул мне широкую, теплую ладонь. Мы удобно уселись в одном из соседних помещений, и, начиная разговор, потихоньку присматривались друг к другу.
Для своих сорока лет Курдов был моложав. Разглядывая меня с явным интересом, он широко улыбался доброй белозубой улыбкой. Сильный и крепкий, он был невысок ростом, но подвижен и подтянут. Яркий брюнет с густой шевелюрой. Смуглая кожа подчеркивала блеск и черноту глаз. Нос чуть с горбинкой придавал лицу какой-то восточный или цыганский облик. Такое лицо нечасто встретишь.
Говорил он быстро, порывисто, сразу сказал, что считает мою задачу очерков очень важной для ленинградских художников. Я не скрывала, что робею, понимая всю ответственность предстоящей работы, и он, уже без улыбки, серьезно уверил, что охотно будет мне помогать и что молодость моя не помеха важному делу.
С такой же добротой он расспросил меня обо всех обстоятельствах моей жизни. С удовольствием услышал о том, что я родилась в Ленинграде, и с сочувствием узнал, что самую суровую часть блокады провела в осажденном городе, потом, волею судеб оказалась в Москве, и теперь вернулась домой. Тут он сразу сказал, что не стал бы до конца доверять москвичу все, что связано с непростой судьбой ленинградского искусства. И я поняла, что в отношениях ленинградцев к москвичам есть какая-то глубоко скрытая настороженность или обида.
Как менялись его интонации, когда он рассказывал мне о событиях 1936 года! Ведь за публикацией в «Правде» последовала еще одна разгромная статья «Против формализма и штампа в иллюстрациях к детской книге», напечатанная в журнале «Детская литература». Ее написал некий А. А. Девишев, который был в чести у вышестоящих инстанций.
Но организованная критика ленинградских мастеров детской книги явилась лишь частью большой и планомерной кампании, что велась в середине тридцатых годов в области культуры под знаком борьбы с так называемым формализмом в искусстве. Тогда пострадали не только ленинградские художники, да и не только художники. В том же 1936 году «Правда» разразилась знаменитой статьей «Сумбур вместо музыки», направленной против Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и его оперы «Леди Макбет Мценского уезда».
О друзьях своих Курдов говорил ласково и сердечно. И с особой значительностью – о Владимире Васильевиче Лебедеве, которого считал и мэтром, и старшим другом. Через много лет он напишет книгу воспоминаний, где ярко и подробно расскажет о себе и о своем окружении. Теперь же он не спешил с подробностями, а обещал продумать, как организовать мою работу над очерками.
Вскоре он позвонил и сказал, что решил прежде всего познакомить меня со старшим среди друзей, Владимиром Михайловичем Конашевичем. «С ним, – подчеркнул он, – Вам будет легко и приятно общаться, он человек редкого обаяния».
* * *
Конашевич жил на Моховой, одной из достопримечательных улиц старого Петербурга. Нетрудно было найти подъезд его дома (по-петербургски – «парадное») и квартиру. Дверь открылась, Владимир Михайлович стоял передо мной улыбающийся, поздоровался и пригласил войти. Мы оказались в светлой, довольно просторной комнате, которая, видимо, служила хозяину для работы и для гостей. На одном из столов в строгом порядке лежали листы с графикой. Уютно была расставлена удобная мебель старого стиля. Несколько акварельных пейзажей в белых паспарту под стеклом в тонких рамах висели на стенах. Я сразу почувствовала себя спокойно в этой обстановке.
Владимир Михайлович осведомился о моем имени и отчестве, спросил, хорошо ли я устроилась в Ленинграде, и деликатно предложил, что расскажет о себе сам.
Замечательный то был рассказ, откровенный и задушевный, рассказ о мирных и военных событиях в жизни человека, много повидавшего и пережившего, рассказ волнующий и увлекательный. Владимир Михайлович давно уже ощущал себя петербуржцем, хотя родился в Новочеркасске, там прошло его детство. Вскоре семья переехала в Чернигов, а затем в Москву. Художественное образование он получил в Московском Училище живописи, но не слишком довольный полученными навыками, уехал в Петроград. Шла уже Первая мировая война. В то беспокойное время отдаваться только станковой живописи, писать портреты и пейзажи, казалось неуместным. Многие молодые живописцы хотели участвовать к общественно-полезной работе. Вместе с друзьями-архитекторами Конашевич занимался сохранением классических памятников архитектуры и живописи: реставрировал росписи стен и плафонов во дворце князя Юсупова, настенную живопись в большом дворце Павловска.
Октябрьский переворот, гражданская война. В 1919 году он рисовал шрифтовые композиции-картоны для камней памятника на Марсовом поле, созданного архитектором Рудневым. Надписи на восьми плитах памятника высекались в красном граните по рисункам Конашевича. Теперь же здесь видны следы траншей, вырытых в 1941 году, когда Ленинград готовился к осаде.
С особым ностальгическим чувством Владимир Михайлович рассказывал о своей работе в Павловском дворце-музее. Двадцать лет он был связан с Павловском. Еще в 1918 году выбрал его, чтобы именно там поселиться, и до 1926 года служил в должности помощника хранителя музея. Занимался реставрацией, изучал музейный архив, писал путеводитель по дворцу и парку.
Он знал в парке каждый уголок, каждый павильон и мостик, рисовал их, писал акварелью, делал литографии. Из Павловска в Ленинград и обратно часто ходили пузатые паровозики с широкой трубой, они тянули несколько стареньких вагончиков, пыхтели густым дымом и оглашали окрестности веселым гудением. Царскосельский вокзал, куда они прибывали, находился недалеко от центра города. Можно было успеть к своим студентам в Академию художеств, где он преподавал рисунок и литографию, да еще и бывать в издательствах.
Когда в первые месяцы войны начались бомбежки, в опасности оказались и жители Павловска, и уникальный дворец с музеем. Часть музейных сокровищ удалось эвакуировать, часть спрятать. В сентябре 1941-го немцы подошли совсем близко к Павловску, железнодорожное сообщение с Ленинградом прекратилось, оккупация происходила с ошеломляющей быстротой.
Через много лет после нашей беседы, пересматривая свои записи, я заглянула в Интернет, чтобы узнать подробности происходившего. И подумала, что, наверное, Владимир Михайлович, оставляя любимый Павловск, даже предположить не мог, что немецкие солдаты вырубят в парке семьдесят пять тысяч деревьев, построят там огневые точки, а немецкие самолеты будут бомбить зеленые лужайки.
В квартире, где жили Владимир Михайлович с супругой Евгенией Петровной, находились его работы, рукописи, начатые воспоминания. Уходить прошлось пешком, и взять все это с собой было невозможно. Они шли вдвоем, одетые так, как застала их очередная бомбежка, почти без вещей. До Ленинграда добирались с трудом. В их возрасте пешие переходы в тридцать, а то и больше, километров, слишком уж непривычны. Последняя часть пути шла до Петроградской стороны, где жила их дочь Ольга. Но и ее дом не уцелел от бомбежки. Тогда Владимиру Михайловичу с Евгенией Петровной предоставили свободную квартиру на Моховой.
Это новое жилье в центре старого Петербурга согревало Конашевичей чем-то похожим на Павловское окружение. Старинная Моховая улица находилась среди многих исторических памятных мест. Рядом с домом, где они поселились, был когда-то флигель, в котором жил Карамзин с семейством и бывал Пушкин. Сколько еще знаменитых людей жили на Моховой! Поэт Тютчев, писатель Гончаров, князь Петр Андреевич Вяземский, композитор Даргомыжский. Здесь, наконец, было Тенишевское училище, там учились когда-то Мандельштам и Набоков. Разумеется, война и блокада окрасили все вокруг суровыми красками.
Голод, холод, все военные лишения Конашевичи, конечно, испытали сполна, и было несказанно тяжело. Неизвестно, выжили бы вообще, если бы Владимира Михайловича не пригласили в Институт переливания крови рисовать для нового научного атласа, который готовил Институт. Работа и продуктовый паек поддержали их с женой. Потом была еще служба в госпитале: понадобился художник, чтобы сделать помещение комфортным для раненых, и Конашевич расставлял мебель, писал текстовые таблички для кабинетов и палат.
Бывало, требовались его навыки работы в монументальной форме. К одному из революционных праздников он писал огромные живописные панно для улиц. С опухшими от голода ногами стоять на шатких лесах домов было особенно опасно. Но он преодолевал страх, головокружение, и работал.
Зимой 1941–1942 Владимир Михайлович начал заново писать воспоминания, пропавшие в Павловске. Мысленно он видел себя в беззаботном детстве, а в действительности смотрел на умирающий город, на неподвижные, засыпанные снегом трамваи, на ослабевших от голода людей, бредущих по заснеженной мостовой. Он сам еле двигался вдоль уличных сугробов, но и на улице старался рисовать.
С трогательным доверием показал мне Владимир Михайлович тетрадь, в которой он заново начал делать записи после прихода из Павловска. Здесь рядом с дневниковыми заметками о войне соседствовали воспоминания о счастливых мирных днях. Особенно острые моменты страшных будней блокады иногда сопровождались рисунками, в которых мелькали заснеженные улицы, люди с печальным грузом на саночках по дороге на кладбище.
Страшные строчки я прочла на одной из страниц, где речь шла о военном декабре: «Успею ли только далеко продвинуть свои воспоминания, может быть, и меня скоро повезут на санках в белом, некрашеном гробу: идет зима 1941 года!».
Владимир Михайлович заметил мое волнение от прочитанного и перевел свой рассказ на довоенные годы. Дух петербургских культурных и житейских устоев сделал его не столь уж уязвимым перед советской партийной критикой. Об оскорбительных эпитетах разгромной критики его рисунков к веселой сказке Чуковского «Лимпопо» в газете «Правда» он говорил насмешливо и без злобы. Ему и Корнею Ивановичу и раньше было не привыкать к непониманию или тупой осторожности чиновников от литературы и педагогики. Еще за год до пресловутой статьи в «Правде» Чуковскому сообщили из Наркомпроса, что его поэма «Крокодил», которую любили дети нескольких поколений, запрещена к переизданию. Там решили, что после убийства руководителя ленинградских большевиков С. М. Кирова в 1934 году слова поэта о палачах, которые мучают зверей в зоопарке, вызовут у маленьких читателей нежелательные аналогии. Это было смешно, а Конашевич и Чуковский любили посмеяться. Работа в «Детгизе», уважительное отношение Лебедева к нему как к старшему и к его взглядам на рисунки для детей наполняли жизнь радостью. Разгром любимой редакции он, как и все друзья, переживал тяжело.
Конашевич говорил, что его интересы никогда не исчерпывались ни детской книгой, ни иллюстрацией вообще, хотя и тем и другим он с удовольствием и успешно занимался смолоду. Он считал, что основой для иллюстратора и конструктора книги может быть только знание и понимание форм живой натуры. Пейзаж, натюрморт и портрет, постоянная пристальная работа за столом или за мольбертом, дома или на природе – вот что питает всякое произведение графики. Он искал и находил гармонию в любой природной форме, и видно было, что он сам и окружающий его домашний мир тоже глубоко гармоничны.
Деловая часть беседы закончилась. Уходить не хотелось. Но меня и не собирались отпускать! К нам вышла Евгения Петровна, неторопливо сервировала стол. Мы пили настоящий, не морковный чай, роль пирожных с успехом исполнили изящно нарезанные ломтики хлеба, намазанные чем-то вроде варенья. Но самым важным и трогательным в нашем замечательном чаепитии было не угощение, а беседа по душам о том, что невозможно забыть, о мечтах и надеждах на новое мирное будущее. Никто из нас тогда не думал, что разочарования не заставят себя ждать.
Я была так переполнена впечатлениями от всего услышанного и увиденного, что попросила Валентина Ивановича Курдова поскорее встретиться со мной. Довольный тем, что моя первая встреча удалась, он сразу предложил приехать к нему.
* * *
Курдов жил на Петроградской стороне. На площади Льва Толстого стоял так называемый Дом с башнями, чья причудливая архитектурная стилистика отдаленно напоминала образы неоготических английских замков конца XIX – начала XX веков. Квартира, куда я пришла, принадлежала известному ленинградскому профессору Михаилу Исаевичу Неменову, одному из основателей советской рентгенологии. Его дочь, художница, была замужем за Валентином Ивановичем Курдовым.
Все в этом профессорском жилище отвечало стилю солидных петербургских домов рубежа веков. Большие уютные комнаты, дубовые двери, зеркальные стекла окон, блестящий паркет, мебель в духе позднего модерна.
Мне бросился в глаза явный контраст между некоторой буржуазностью этого интерьера и откровенной демократичностью облика Валентина Ивановича. Рядом с ним меня встречала его худенькая жена. Это был сюрприз: он прекрасно знал, что неожиданное знакомство будет для меня интересным.
Ленинградская художница Герта Михайловна Неменова не значилась в списке ВОКСа, но пройти мимо нее было невозможно. В жизни своего мужа и его близких друзей в пору совместной учебы во ВХУТЕИНе она играла не последнюю роль. В альбоме ее автолитографий, выпущенном в 2007 году, есть уникальная фотография 20-х годов из архива издателя и автора вступительной статьи Ильдара Галеева. Молодые Юрий Васнецов, Герта Неменова и Валентин Курдов стоят, облокотившись на ограду Екатерининского канала. Длинные пальто, лихо нахлобученные кепи на головах мужчин, берет и прическа Герты, портфель в руках студента Курдова сохранили колорит времени. Все трое жизнерадостны и уверены в себе. Герта Михайловна очень хороша собой.
И теперь, в квартире на Петроградской, мне кажется, что прошедшие годы, война, жизнь в эвакуации в Казани не сильно изменили ее. Она оставалась все такой же стройной, в красивых глазах, в движениях тонких рук просвечивал незаурядный характер.
На какое-то мгновение я смутилась, не зная, с чего начать беседу, но Герта Михайловна, ободряя меня, непринужденно повела общий разговор. Стройная, почти юношеская фигурка, папироса, зажатая в длинных пальцах, тонкие черты лица – рядом со своим грубоватым на вид, чуть ли не простецким мужем, она выглядела как нежный экзотический цветок. И я не удивилась, когда узнала, что она целый год училась в Париже у Леже, дружила с Натальей Гончаровой и Михаилом Ларионовым, была знакома с Пикассо.
Валентин Иванович предложил посмотреть графику Герты Михайловны, и она показала несколько легких, лаконичных рисунков карандашом и углем и кое-что из литографий.
Я вспоминаю ее краткие комментарии к работам, или в разговорах о художниках, и понимаю, насколько независимой и яркой была эта личность.
Валентин Иванович не спешил показывать свои работы. Он делился военными впечатлениями, вспоминал о времени в партизанском отряде. Теперь он продолжал серию литографий «По дорогам войны».
И все же охотно и очень живо он рассказывал о своих ранних годах учения, начиная с Петрограда. В пору обучения в Академии и в аспирантуре у Малевича, куда ему и Васнецову посоветовал поступить Лебедев, Курдов успел соприкоснуться с художественными концепциями разного толка.
Достаточно легко овладевая опытом кубизма и умением строить живописную форму предмета на плоскости холста, он понимал, что едва ли сможет сразу применить эти умения на практике. Школа Малевича прошла не без пользы, но ее навыки остались для него лишь глубоко внутренней кухней мастерства и крепкой технической опорой, какие бы задачи ему ни приходилось решать в рисунке и живописи.
Переход от полнокровной и ясной жизни на далеком Урале к скудному питерскому быту студентов и к новым представлениям об искусстве оказался не легким.
Он родился в Михайловском заводе Красноуфимского уезда Пермской губернии, в семье земского врача. Детство и юность прошли в Перми, и к этому краю лесов и гор Курдов навсегда сохранил свою любовь. После недолгой учебы в пермской художественной студии, а затем в Екатеринбургском художественном училище, он решил ехать учиться в Петроград, в Академию Художеств. И вот летом 1923 года, со старинной плетеной корзиной, куда родители заботливо уложили одеяло с подушкой, отцовский плащ и ботинки, он оказался на Васильевском острове. Так началась его жизнь в Петрограде и учеба в Академии художеств – тогда ВХУТЕИНе.
Лебедев быстро понял, что работа в детской книге как нельзя более соответствует склонностям и живому характеру Курдова. Он заметил его страсть к путешествиям и к охоте. Из Ленинграда вместе с неутомимым охотником и знатоком природы Виталием Бианки отправлялись они в далекие края – на Северный Урал, почти к полярному кругу. Путевые впечатления писателя и рисунки художника дали жизнь уникальной книге «Конец земли». Потом родилась идея «Лесной газеты», где детям хватало чтения и рассматривания рисунков на целый год. Это был и уникальный календарь природы, и своеобразная энциклопедия. Рисунки Курдова не напоминали научный атлас, он находил необычные, то поэтические, то драматические ситуации в жизни животных и в среде их обитания.
Еще в 1927-м он успел год прослужить в армии. Ему повезло: он попал не в пехоту, а в кавалерийскую команду, и это потом пригодилось для рисунков в книжках о кавалерии, которые он делал с особенным удовольствием.
Лошадей он любил с детства и рисовал с той страстью, какая присуща мальчишкам, влюбленным в рыцарство, в старинные поединки, в кавалерийские рейды. Та же страстность отличала его рисунки к рыцарским романам, например, к «Айвенго» Вальтера Скотта, к старинным сагам с битвами и приключениями, таким как знаменитый карело-финский эпос «Калевала».
Его считали романтиком. Абсолютно справедливо. Не от того ли он так долго романтически верил в общественные преобразования вроде революции, с ломкой устоявшихся традиций прошлого – ведь тут была борьба, героизм, убежденность…
Неуемная энергия всегда толкала его вперед, заставляла постоянно искать, придумывать и организовывать что-то новое, но не занимать никаких должностей в художественных организациях. Ложные положения в групповой борьбе он переживал мучительно.
Когда надвинулась эта странная финская война, в Доме на Герцена, 38 начали выпуск сатирических листков под названием «Боевой карандаш». Голубая гостиная особняка на Герцена превратилась в комнату для рисования, внизу в экспериментальной мастерской листки печатались литографским способом. Не прошло и полутора лет, и вот в 1941-м «Боевой карандаш» перешел на выпуск антигитлеровских листков.
А неуемный Курдов работал на маскировке военного аэродрома, на Невской Дубровке, потом рыл противотанковые рвы. Началась блокада, и он переселился в Дом на Герцена. Выпускающие «Боевой карандаш» работали внизу, рядом с литографской мастерской, в бывшей бильярдной. Сюда приходили с эскизами и молодые, и старшие. Как всегда элегантный, появлялся Николай Андреевич Тырса. В литографской мастерской делали плакаты Пахомов и Конашевич. Сюда Курдов однажды привел постаревшего, измученного голодом и одиночеством Васнецова. Его жена и две маленькие дочки были отправлены в эвакуацию, и художник чувствовал себя неприкаянным. Он тоже рисовал нужные фронту открытки. В один из зимних блокадных дней Курдов отправил вместо себя истощенного Васнецова на Большую землю.
И, наконец, по заданию политуправления Ленинградского фронта Валентин Иванович уехал в боевые части, рисовать рядом с военными корреспондентами. Когда кончилась эта работа, и он с тем же заданием ушел к партизанам.
Из разговора с Валентином Ивановичем я понимаю, что все, сделанное им в довоенные годы, пока отлеживается в сторонке. Позднее он напишет книгу о том незабываемом времени, расскажет о себе и замечательных людях своего окружения. Подробную вступительную статью и комментарии к этой книге написал Вадим Степанович Матафонов. Но рукопись так долго мариновалась в издательских столах и так беспощадно рецензировалась цензорами из Академии художеств, что увидеть ее напечатанной при жизни Валентин Иванович не успел. Да и вышла его книга в скверном полиграфическом исполнении, на плохой бумаге, с бледными репродукциями и фотографиями. Но, к счастью, при его жизни вышла солидная статья Бориса Давыдовича Суриса для каталога выставки.
С памятных дней сорок пятого года началась наша дружба и многолетняя переписка с Валентином Ивановичем. Большой корпус интереснейших писем ко мне я передала после его кончины в Отдел рукописей Государственного Русского музея и только частично опубликовала в своей статье о художнике в 2006 году.
Не теряя нежного отношения к прошлому, он жил совершенно новой жизнью, зная, что та ушедшая эпоха неповторима. В одном из писем он написал мне: «…Вообще отступать не собираюсь, давай будем вместе биться в бою за правду в искусстве…»
* * *
Алексей Федорович Пахомов был пятью годами старше Курдова. Валентин Иванович говорил мне о нем как об очень оригинальном живописце, получившем первое художественное образование еще в старом Петербурге. Я думала, что увижу этакого мэтра с длинной шевелюрой, в артистической блузе с бантом, с большой, тяжелой от красок палитрой и кистями в руках.
Ничего подобного. В светлой мастерской при квартире на Каменноостровском проспекте меня встретил невысокий худощавый человек в сером костюме с белоснежной рубашкой и туго повязанном галстуке. Лицо аккуратно выбрито. Голова причесана на совершенно обычный манер. Вокруг чисто прибрано, никакого художественного беспорядка. Степенное достоинство чувствовалось в этой обстановке.
Пахомов происходил из крестьян Вологодской губернии и, став горожанином, никогда не оставлял родные места. Близость деревни Варламово к Петрограду позволяла проводить зиму в городе и там учиться.
Мы легко начали беседовать. Говорил Алексей Федорович негромко, неторопливо, внимательно слушал мои вопросы. Иногда, отвечая, замолкал, обдумывая, достаточно ли точно сказал.
Первые тревожные дни застали его в родной деревне. Он, как обычно, приехал повидаться с родными, порисовать полевые работы, знакомых крестьян, деревенских ребятишек и природу. С известием о начале военных действий лицо деревни быстро изменилось. Мужчины получили повестки и собирали дорожные мешки, женщины с плачем провожали их на вокзал. Пахомов едва успел сесть на проходящий пассажирский поезд и скоро оказался в Ленинграде.
Он увидел в городе все признаки военного положения, ощутил, что прежняя жизнь ушла навсегда. Почувствовал приближение небывалого горя, как он сказал, невиданного несчастья. Война была абсолютно враждебна его натуре. Не мысля себя с оружием в руках, он жаждал любой гражданской работы, направленной против свалившегося на страну нашествия.
На Герцена, 38 каждый день собирались художники. Здесь требовалось все, начиная от дежурства на крышах домов и кончая созданием открыток и оборонных плакатов. У Пахомова была своя особая область в этой работе: он еще в довоенные годы рисовал и сам литографировал плакаты для детей и подростков. Он рисовал детей с тех пор, как он вообще стал на путь художника. И такие плакаты он создавал, не отрываясь от иллюстрирования детских книг.
Скоро открытки и плакаты пришлось оставить. Художники отправились в пригороды копать противотанковые рвы. А когда вернулись, Ленинград уже готовился к осаде.
Я очень хорошо помнила это время, когда и наш студенческий отряд первокурсников Ленинградского университета вернулся в город из новгородских лесов.
Мы с Алексеем Федоровичем вспоминали, как жизнь в городе замерла. Я напрасно ждала вызова в Университет. А Алексей Федорович рассказывал, как закрывались издательства и типографии. Начались бомбардировки и артиллерийские обстрелы. Он, как и многие его коллеги, оставался дома, в нетопленной квартире. Поначалу, лежа под грудой одеял, рассматривал свою небольшую коллекцию художественных альбомов. Так легче было переносить чувство голода.
Спасение от голодной смерти пришло неожиданно: однажды сотрудница Института переливания крови, увидев Алексея Федоровича во дворе его дома, спросила, не знает ли он художника Пахомова. Его, оказывается, искали, чтобы пригласить рисовать в Институт для нового медицинского атласа.
Эта задача имела военное значение. Врачи Ленинградского военного округа начали изучение неизвестной прежде блокадной болезни – алиментарной дистрофии (от латинского alimentum – пища). В институте уже работали художники Конашевич и Валериан Двораковский. Совсем ослабевший Дмитрий Исидорович Митрохин рисовал и жил при Институте. Здесь его и лечили, и подкармливали. Все художники получали продуктовый паек и тем поддерживали силы.
Алексей Федорович вспоминал об этом совершенно особенном рисовании, нужном военным медикам. Из лечебных отделений художники переходили в морг, фиксировали ту страшную печать, которую оставляла на телах и лицах блокада. Рисунки должны были быть беспристрастными, обладать объективностью документа. Но они неизбежно несли на себе следы эмоций рисовальщика. На все это уходило немало душевных сил.
После необычных сеансов Пахомов выходил на улицы, рисовал сцены уличной блокадной жизни. Несчастные люди, напуганные слухами о шпионах, якобы сброшенных в город на парашютах, относились к появлению Пахомова подозрительно, сердились: зачем он рисует печальных, изможденных голодом людей? Он не спорил, просто уходил, заканчивал дома по памяти начатую работу.
Морозы доходили до тридцати восьми градусов, порой даже до сорока. Ледяной ветер сбивал ослабевших ленинградцев с ног. Уже давно не ходил по городу транспорт. Улицы не убирали. Пешеходы протаптывали дорожки между снежными сугробами на мостовых, сокращали путь через Неву прямо по крепкому льду.
С Петроградской стороны Пахомов, закутанный во все, что у него имелось теплого, с папкой рисунков в замерзших руках, спускался на лед около Петропавловской крепости и шел на Герцена, 38 по тропинке, ведущей к закованному в деревянный футляр Медному всаднику.
Это были первые листы будущей серии литографий: повязанные шерстяными платками девочки с чайниками бесценной воды в слабеньких ручках, исхудавший дистрофик на саночках. В Союзе художников Пахомов встречался с Конашевичем, который тоже приходил показать свои зарисовки. Разные по возрасту и воспитанию, но связанные общим отношением к страдающим горожанам и к городу, они были теперь особенно дружны.
Говоря о своей любви к технике рисунка, Пахомов вспоминал годы учения в мастерских Тырсы и Лебедева. На встречи за чашкой чая, где собирались вместе порисовать Лебедев, Тырса, Лапшин, часто приходил их общий друг – известный искусствовед и музейный деятель Николай Николаевич Пунин. Там Пахомов показывал свои наброски, эскизы. И старшие тепло и дружески принимали его, как равного.
«Хотите, я покажу Вам свою живопись?» – вдруг неожиданно спросил Алексей Федорович.
Он подхватил стремянку, с легкостью взобрался на антресоли, и один за другим стал спускать вниз свои большие холсты, написанные в годы участия в художественном объединении «Круг», ликвидированном за «левизну» в 1932 году. Так вот о чем говорил мне Курдов…
Мы, не торопясь, смотрели вместе на яркие, широко написанные полотна. Похоже было, что он давно не доставал их, не пересматривал. Это была действительно очень оригинальная живопись. Казалось, художник пренебрегал всеми правилами построения картины, не считался с законами композиции, упирая крупные фигуры и головы в верхнюю границу полотна, а то и вовсе срезая их. Писал размашисто, плотным мазком, закрашивая фоны так, что они как будто выталкивали фигуры из границ плоскости. Во всех композициях меня захватывала ритмика движения, открытый и звонкий цвет, чистые, как в русской иконе, гладкие массы краски. Глаза моделей были притягательны, как в древних фаюмских портретах.
Алексей Федорович говорил, что искал свой собственный живописный стиль и вместе с ним – стиль своей эпохи. В годы учения он внимательно присматривался ко всему новому и в «Круге» отдал немалую дань упорной работе с формой. Обращался к русской иконе, к фреске Возрождения, искал там секреты живого, гладкого гармоничного письма. Через двадцать пять лет после нашей встречи он написал большую книгу, где рассказал и о своем рисовании для детей, и о живописи. Она вышла с прекрасными репродукциями его картин и рисунков.
Как только полиграфия позволила достаточно адекватно воспроизводить технику рисунка, Пахомов вернулся к карандашу, который всегда нравился ему, как он говорил, певучестью и красотой линий. Он продолжал рисовать детей, крупно, на чистых белых листах бумаги, пристально всматриваясь в их лица. И книги его с черно-белой графикой – тонкие крупного формата тетрадки – со стихами Маршака, позднее со стихами Некрасова, с короткими рассказами Тургенева или Толстого – были откровенно дидактическими, как и сами тексты, которые он выбирал неслучайно.
Образы детства он воплощал и в скульптуре малых форм. Созданные им фигурки детей, отлитые в фарфоре, шли в массовое производство, быстро раскупались. Пахомов, как и Курдов, считал, что так искусство непременно должно служить идеям своего времени.
* * *
Уголок Васильевского острова, где находились некоторые мастерские художников, и куда мне предстояло теперь поехать, чтобы побывать у Юрия Алексеевича Васнецова, Курдов называл «Русским Монмартром». Не только эта малая часть, но и весь большой район вокруг представлял собой особенный мир, когда-то связанный с градостроительными затеями Петра I, мечтавшего создать здесь свою маленькую Голландию. Засыпанные каналы со временем превратились в улицы, названные Линиями, их пересекали Большой, Средний и Малый проспекты. Вокруг Академии художеств, ее Литейного двора и близлежащих строений селились будущие художники. Каким-то необъяснимым образом внутри большого города сохранялся дух маленькой провинции. Вдали виднелась Гавань, откуда всегда дул свежий ветерок, у травянистых спусков к Неве покачивались лодки.
Васин остров, как его называли художники, часто страдал от наводнений. Рассказывая о студенческой жизни в пору обучения в Академии художеств, Курдов вспоминал знаменитое наводнение 1924 года, когда улицы стали реками, а торцы вспухших мостовых плавали в воде. Лодка, принадлежавшая Академии художеств, перевозила на твердую землю попавших в беду людей из первых этажей и подвалов, подбирала испуганных прохожих.
Квартал вокруг Академии художеств отличался особым колоритом. На Литейном дворе квартировали преподаватели, у академической обслуги студенты снимали углы со скромным пансионом. Многие находили в соседних домах недорогое жилье с мастерскими в мансардах. В одной из таких мастерских на 1-й Линии поселились вернувшиеся из эвакуации Васнецовы: Юрий Алексеевич с женой Галиной Михайловной и двумя дочками-школьницами.
Мастерская эта не однажды переходила к разным владельцам. Раньше тут работали живописцы А. Е. Яковлев и В. И. Шухаев, потом скульптор профессор И. С. Бах. После них мансарда досталась Курдову. За малый размер Валентин Иванович прозвал мансарду скворечней. Здесь когда-то произошла незабываемая встреча студентов пятого курса, Курдова и Васнецова, с Владимиром Васильевичем Лебедевым. Два студента, с трепетом и страхом, как перед экзаменом, решили показать свои работы, попросить совета – чем заниматься после окончания Академии.
С тех пор минуло двадцать лет. Я ехала в мастерскую, предупрежденная о том, что Юрий Алексеевич, человек своеобразный, болезненно пережил критику 1936 года и едва ли захочет об этом вспоминать. «Скорее всего, – сказал Валентин Иванович, – он сам решит, о чем рассказать».
И все же, на правах друга, Курдов много важного сообщил мне перед предстоящей встречей.
Студенческая жизнь Юрия Васнецова складывалась нелегко. В первые петроградские годы приходилось умалчивать о том, что его отец был священником: детей священнослужителей в институты не принимали. В Вятке, этом старинном городе народных умельцев, прошли его детство и юность. Там подружились когда-то два гимназиста: Юрий Васнецов и Евгений Чарушин. Вместе они отправились в Петроград учиться, вместе снимали угол с пансионом на Литейном дворе.
Васнецов трудно вживался в быт большого города, долго свыкался с разнобоем и неразберихой в педагогических системах преподавателей Академии – тогда уже ВХУТЕИНа. Студентам жилось голодно, и он подрабатывал писанием маленьких вывесок для рыночных лавок, расписывал дуги лошадиных упряжек, даже таблички с ценами на товары. С этой работой он справлялся легко: росписью предметов народного быта он занимался и у себя в Вятке. А вот академический рисунок давался намного труднее. Радость он находил в живописи, хотя самые разные школы прошел не без мучений и внутренних несогласий: ведь он учился и у Браза, и у Савинова, у Лебедева, и у Малевича.
Юрий Алексеевич оказался подготовленным к встрече со мной и гостеприимно распахнул дверь, хотя я уже знала, что дом его открыт далеко не для всех. Здороваясь, он протянул мне сразу обе руки. Я огляделась и почувствовала себя легко и свободно в его совершенно необыкновенном окружении. Собственная, ни на что непохожая атмосфера дома Васнецова была праздничной и уютной. В городе поздних зимних рассветов и долгих осенних пасмурных дней, в его красочном мире не было серого цвета. Какое-то веселое убранство с обилием натурального дерева, живых цветов, разнообразных предметов народного искусства и крестьянского быта. Никакой случайности выбора или ошибок вкуса. Сухие букеты были в согласии с живыми цветами, повторяли узоры расписных подносов. Вятская игрушка, сделанная руками известных мастеров, соседствовала со старинными пряничными досками. И все это, вполне достойное музея, существовало вместе с мебелью и бытовой посудой как естественная часть домашней среды. Должно быть, хозяин терпеливо, по крупицам собирал в свое обиталище излюбленные вещицы.
Его квартиру и мастерскую на Екатерингофском канале разрушила одна из первых бомбежек. Теперь он восполнял то, что пропало в той квартире. Я вспомнила, что Курдов рассказывал мне, как Юрий Алексеевич заплакал, стоя вместе с ним перед руинами Екатерингофского дома. К счастью, жену с детьми он вовремя отправил в эвакуацию.
Но вот начался наш разговор. Юрий Алексеевич показывал мне свои сокровища и вспоминал о первых годах учения в Академии. Он знал, что гораздо глубже друзей укоренен в своей патриархально-провинциальной среде. К жизни большого города привыкал с трудом, и в родную Вятку неизменно ездил на каждые каникулы. Искусственная пересадка на петербургскую почву могла бы сломить его, если бы не могучее здоровье, любовь к художественному ремеслу, привычка к труду и заработкам.
Он говорил, что хорошо чувствовал материальность вещей и поэтому легко понимал предметные задачи, которые ставил Малевич. Но они не слишком увлекали его. Иногда дома он по-своему переписывал то, что выполнял в учебной мастерской. И я поразилась тому, как три его натюрморта на стене, выполненные у Малевича, спокойно и органично соседствовали с остальным окружением. Практической пользы в овладении методом кубизма Васнецов, как и Курдов, для себя не видел, но важные уроки бережливо сохранил. А вскоре ему и его друзьям представилась возможность работать под руководством Лебедева в совсем другой увлекательной области: создании новой книги для детей.
Владимир Васильевич Лебедев стал для Васнецова опорой. Появилась надежда на будущее. Культура и эрудиция учителя помогала сохранять веру в свой собственный путь, удержаться на плаву в бурях разнообразных художественных течений.
Кроме того, он нашел для себя своего рода отдушину: пошел работать с детьми. Да с детьми не совсем обычными. Преподавал рисование в школе для трудновоспитуемых. Были тогда такие. Педагоги называли их дефективными, а ему это казалось оскорбительным. Он понимал, что их поведение объяснялась социальными трудностями: сиротством, голоданием, безнадзорностью. Он жалел их, старался отвлечь от улицы, увлечь рисованием. Он сам был очень молод и потому открыт этим детям. В работе с ними находил для себя что-то важное и нужное в будущей работе с книгой для детей.
Художники круга Лебедева не относились к иллюстрации как к сопровождению текста. Они создавали ее как единый строй развернутого действия. Слово и картинка существовали на равных. Особенно в книжке для самых маленьких, где текст практически становился подписью к изображению. Именно этот тип детской книжки он особенно любил – возможно, чутье толкало его на создание законченной картины даже в книжке.
В тридцатые годы, когда ленинградцы увлекались работой в экспериментальной литографской мастерской на Герцена, Николай Андреевич Тырса заговорил о детском цветном эстампе, об участии художника в формировании эстетического окружения ребенка дома, в детском саду, в школе. Идея оказалась вполне реальной. Сравнительно недорогой детский эстамп действительно мог украсить жизнь, приучить детей к общению с чем-то прекрасным, праздничным.
Ленинград пережил тяжелую полосу уплотнений, началось царство коммунальных квартир, изуродовавших прежние петербургские интерьеры. Понятие «детской» безнадежно исчезало. И все же Васнецов знал, что у многих родителей находился для детей уголок, где висел его эстамп «Котик», или другой – из тех, что недорого стоили в художественном салоне.
Эпоха революционного аскетизма, когда коммунисты и комсомольцы не позволяли себе ничего лишнего, по их мнению, буржуазного, все-таки миновала. Теперь требовалось пробуждать и подталкивать естественные потребности людей в красоте.
В детях Васнецов видел незамутненную устаревшими понятиями часть нового общества. Николай Андреевич Тырса смотрел на цветную книжку-картинку – эстамп как на ступеньку к эстетическому просвещению детей. Такой взгляд был новым и увлекательным. Васнецов тогда почувствовал интерес и вкус к цветной литографии.
Он показал мне десять цветных эстампов на сюжеты народных сказок, которые успел сделать перед войной. Теперь, после войны, эта работа продолжилась.
Но он не мог отрешиться от военных воспоминаний, рассказывал, как поначалу вместе с друзьями-художниками рыл оборонительные укрепления, потом в литографской мастерской делал открытки для фронта. Голод, бомбежки и обстрелы переносил тяжело, и только энергия и преданность друга Вали Курдова ободряли. Тот понимал его состояние и фактически спас ему жизнь, отправив вместо себя сопровождать на барже важный груз, который шел на Большую землю.
Соединившись, семья Васнецовых обосновалась в Вятке. Перед возвращением в Москву прожили некоторое время в Загорске. Провинциальный быт старинного города чем-то напоминал город его детства, умиротворял его. С этих пор живопись маслом на холсте стала постоянной, но закрытой для всех его личной лабораторией.
«Свою живопись я покажу Вам в нашу следующую встречу: ведь Вы, наверное, еще будете в Ленинграде…». Этими словами он деликатно дал мне понять, что пора закончить беседу.
Свое обещание Юрий Алексеевич выполнил. Почти в каждый мой приезд в Ленинград мы встречались, смотрели его новые пейзажи и натюрморты. Пришло время, когда он получил новую большую квартиру с мастерской в доме, выстроенном для художников на Песочной набережной Малой Невки. Он уже был достаточно знаменит и не так закрыт для гостей, как прежде. Летом 1972 года он даже принял по моей просьбе группу искусствоведов, приехавших из-за границы на Международную конференцию, которая проходила в Москве под эгидой правления Союза художников СССР. Всех поразила его оригинальная живопись, совершенно неизвестная на Западе. Профессор Голешовский из Праги сравнивал ее с живописью Жоржа Руо.
* * *
Была одна приятная особенность почти у каждой встречи с художниками. Очередной адрес, по которому я ехала, открывал передо мной разные, порой неизвестные раньше уголки Ленинграда. Город как будто заново принимал меня.
Итак, я еду к Чарушиным. Они живут на Петроградской стороне, на улице Рентгена. Когда-то она называлась Лицейской. Сюда, на место бывшего Александринского сиротского дома, еще в середине XIX века перевели из Царского села знаменитый Александровский лицей, закрытый советской властью в 1918 году. Его бывших учеников, известных ученых, юристов, арестовали в 1925 году по так называемому «Делу лицеистов». Многих расстреляли или погубили в лагерях. Потом на месте лицея создали Институт Радия и переименовали улицу.
В светлой квартире на улице Рентгена меня встретили Евгений Иванович Чарушин и его супруга Наталья Аркадьевна. О ее доброте и гостеприимстве Валентин Иванович Курдов рассказывал особо. Их одиннадцатилетний сынишка Никита, герой многих чарушинских рассказов, тоже будет дома, – сказал Курдов.
Мы сидим в светлой просторной комнате у большого рабочего стола Чарушина. Пытаюсь представить себе этого моложавого интеллигентного, совершенно городского, тщательно одетого и красиво причесанного человека, в лесу – в болотных охотничьих сапогах, с ружьем или со знаменитым волчишкой на руках. Удивляюсь, узнав, что он часто охотился вместе с Владимиром Михайловичем Конашевичем. О том, что вместе с Курдовым и с их общим другом художником Костровым они прошли пешком по Барнаульским степям, путешествовали верхом на лошадях, плыли на лодках по озерам и порожистым рекам, я тоже знаю. Есть фотография, на которой Чарушин, Курдов и Костров после возвращения с Алтая стоят с длинными охотничьими ружьями, в широкополых шляпах и сапогах выше колен, как заправские мушкетеры.
Чарушины недавно вернулись домой из эвакуации, и еще не совсем вошли в послевоенную жизнь. Там, в Вятке жилось трудно. Не так, как в Ленинграде, конечно, но тоже голодно. Жили в баньке у Васнецовых, потому что жилой фонд в городе быстро заполнился эвакуированными ленинградцами и москвичами. Потом получили две комнатушки в чьей-то квартире.
А когда-то ведь был здесь отцовский просторный двухэтажный дом с садом и огородом. После смерти матери отец жил вместе с ними в Ленинграде. Вместе уезжали в эвакуацию в теплушке, ехали под бомбежкой. Незадолго до возвращения в Ленинград похоронили после тяжелой болезни старшего Чарушина.
Печаль об утрате долго не оставляла Евгения Ивановича. И теперь он охотнее всего он рассказывал о своих детских годах с родителями. Отец – губернский архитектор, приучал сына к рисованию, возил с собой в поездки по губернии. Друг отца, художник Аркадий Александрович Рылов, брал Женю с собой на этюды. Мать занималась любительским садоводством и выведением редких пород домашней птицы. Там зародилась любовь к лесу, к охоте, к звериным малышам, и были сделаны первые наивные опыты в написании рассказов.
Потом была учеба в Академии художеств, часы рисования вместе с Курдовым в ленинградском зверинце. Занятия в мастерских у известных педагогов Карева и Матюшина, радовали меньше и впоследствии мало пригодились. А Маршак и Лебедев сразу разглядели в академическом выученике оригинального анималиста.
После нескольких удачных книжек начала тридцатых годов с собственными рассказами и с рисунками к стихам Маршака к Чарушину пришла известность. Этими веселыми книжками он прославился еще до ликвидации ленинградской редакции. Потом без особых трудностей пошли московские переиздания. Газетная критика не затронула его.
В тридцатых годах он, как и другие ленинградские художники, увлекся литографией, загорелся идеей создания нового жанра станковой графики – настенной картинки для детей. В литографской мастерской на Герцена он изобретал свою собственную технику работы на камне, подчас сильно озадачивая мастеров-печатников. Среди тех, кто откликнулся на призыв Николая Андреевича Тырсы вводить художественный эстамп в обиход, у него и у Васнецова образовалась своя ниша. Настенная картинка с сюжетами знакомых сказок или с привлекательными образами любимых зверей создавалась для того, чтобы стать нужной и любимой в детском саду, в семье.
Вслед за тем у Чарушина, так же как у Пахомова, появился интерес к малой пластике в фарфоре. Отлитые в этом легком и привычном для быта материале, фарфоровые фигурки звериных малышей постоянно тиражировались на Ленинградском заводе Ломоносова. Их смысл и назначение были те же, что у цветного эстампа: окружать ребенка в быту искусством, приучать его глаз к восприятию большой скульптуры. Фарфоровые зверята сохранялись и жили дольше, чем книги.
В эвакуации пришлось заниматься театральной декорацией, разного рода оформительскими работами. Ничто, однако, не приносило такого удовлетворения, как работа с детьми и для детей.
Все началось с предложения расписать скучные пустые стены в рабочей столовой. За этим последовали заводской детский сад и Дом пионеров. Задачи оказались совершенно новыми, возникал творческий азарт, сознание, что все это нужно не меньше, чем книжки. При минимальных полиграфических возможностях создавались и книжки.
Общение с детьми приносило особую радость. Еще и еще раз он пробовал свой метод приобщения малых ребят к краске, к рисованию, а вернее – к письму красками – то есть к живописи на больших листах любой бумаги, какая подвернется.
Многое из того что делал Евгений Иванович, было, по существу, просветительством для детей и для окружающих взрослых. К сердцу ребенка он шел, показывая жизнь звериного детеныша, а не взрослого зверя. Он хотел, чтобы дети понимали, что эти нежные создания нуждаются в защите, их надо любить и беречь.
В ленинградской квартире на Петроградской стороне молодая семья Чарушиных сохраняла то же отношение к животным, что художник усвоил с детства. Жили здесь певчие птицы, пушистый кот Тюпа и собака, с которой художник охотился.
С удовольствием рассказывая о вятском детстве, о детях, Евгений Иванович не очень хотел говорить о том, что делает сейчас, не рассказывал о своих планах на будущее. Издательства молчали, сразу после войны прежних возможностей напечатать книгу не было. Этот перерыв в творческом процессе угнетал его. Так же, как Васнецов, он надеялся, что мы еще увидимся, когда ему будет что показать.
Довольно скоро после июньских встреч у меня завязались самые теплые отношения с ленинградскими художниками. Я жила в Москве, служила в Правлении Союза художников СССР в должности ученого секретаря и раз или два в году обязательно приезжала в Ленинград. Бывала в мастерской Алексея Федоровича Пахомова, заходила к Конашевичам и непременно навещала Васнецовых и Чарушиных. В 1964 году меня назначили секретарем Национального комитета Международной выставки искусства книги в Лейпциге: Internationale Buchkunst Ausstellung – 1965. И мы с Курдовым готовили нескольких ленинградских графиков к участию в этом большом международном смотре. Я работала стендистом и видела, какой интерес вызывает у зрителя советский отдел. Васнецов и Чарушин были достойно представлены на выставке вместе с московскими мастерами книги. Евгений Иванович Чарушин с успехом показал там свои новые акварели к стихотворениям Маршака «Детки в клетке» и получил золотую награду.
Это была его последняя работа, в том же году он скончался.
Двумя годами раньше умер Конашевич. Мы успели встретиться с Владимиром Михайловичем в Москве, в квартире его старого друга архитектора Гельфрейха. Я прочитала там посвященную ему главу из рукописи своей первой большой книги, которая готовилась к печати. Владимир Михайлович слушал внимательно, и мне казалось, остался доволен услышанным. А я так волновалась, что уходя, забыла на столе несколько читанных страниц. И очень скоро получила их по почте с очаровательным письмом Владимира Михайловича. Его почерк я узнала бы среди тысячи других: это был почерк его воспоминаний, которые мы читали вместе с ним в сорок пятом году в Ленинграде.
Никита Чарушин стал художником и по-своему продолжал дело отца. Книги старшего Чарушина еще продолжали издавать, когда в 1968 году появились «Птицы», а в 1969 «Диковинные звери» младшего Чарушина.
Какое-то особое братство сохранялось в среде тех, кто когда-то представлял своим творчеством ранний ленинградский «Детгиз». Конашевич крепко дружил с семьей Чарушиных. Лебедев, не глядя на свое нездоровье, опекал Никиту Чарушина, давал ему советы, когда тот работал над своими первыми книжками для детей. Тяжело больной Маршак покровительствовал всем старым друзьям и заботился о продвижении уже младшего поколения художников.
* * *
Приближался срок сдачи в редакцию очерков о ленинградцах, но еще не состоялась последняя, самая главная встреча – с Владимиром Васильевичем Лебедевым. Нужно было ехать в Москву. Меня удручала мысль о том, что я хорошо помню только детские книжки Маршака и Лебедева, но имею весьма слабое представление о творчестве такого большого мастера живописи и графики, как Лебедев.
Я знала, что Маршак с 1938 года постоянно жил в Москве и активно работал в газете «Правда», но их совместные с Лебедевым книжки продолжали издаваться.
Лебедева вызвали в столицу из недолгой эвакуации в Вятку, и он сразу начал работать в «Окнах ТАСС», где они с Маршаком снова трудились вместе. Однако «Окна ТАСС» в 1945 году уже сыграли свою важную роль, и эта работа закончилась. Но все же что-то еще держало Владимира Васильевича в Москве.
Курдов очень много рассказывал мне о Лебедеве. Сначала Владимир Васильевич вообще не собирался покидать Ленинград. Как только началась война, создал свой первый антигитлеровский плакат и вскоре возглавил группу плакатистов в ленинградском издательстве «Искусство». Но уже осенью 1941 года эвакуация стала неизбежной. Он оставил свой дом, квартиру и мастерскую, все, что создал в графике и живописи за предвоенные годы. То были самые тяжелые месяцы войны, когда немцы наступали на всех фронтах, и Ленинград быстро потерял большую часть своего народного ополчения. Началась блокада. Так что тем, кого успели эвакуировать до августа сорок первого года, повезло.
После снятия блокады друзья–ученики, особенно Курдов, звонили ему в Москву, рассказывали обо всем, что происходило в городе. Он с горечью узнавал о разрушениях, и, конечно, тосковал по оставленной мастерской, по своей уникальной библиотеке. Не мог смириться с мыслью, что уже никогда не увидит своих погибших друзей, самых близких – Тырсу и Лапшина.
Я получила от Курдова несколько добрых напутствий и с ними приехала в Москву. Позвонила Владимиру Васильевичу и получила приглашение прийти – привычный для меня знак того, что Курдов уже рассказал обо мне и моем задании из ВОКСа.
Лебедев жил на улице Горького рядом с Пушкинской площадью, в одном из домов, построенных в самом конце 1930-х годов по проекту сталинского фаворита, архитектора А. Г. Мордвинова. Москвичи, шутя, называли его Домом под юбкой – из-за скульптуры балерины, установленной на угловой башенке. Разительный контраст с петербургской архитектурой. В этом доме жили многие известные деятели искусств. Здесь находилась и квартира скульптора Сарры Дмитриевны Лебедевой, бывшей жены Владимира Васильевича, у которой он жил, работая в Москве. После расставания в молодости они остались неизменными друзьями.
Владимир Васильевич был дома один. Хотя он встретил меня с подчеркнуто петербургской церемонностью, мне показалось, что взгляд его был чуть-чуть насмешлив.
В отличие от Конашевича, он предпочел говорить прежде всего о работе в детской книге. И начал свой рассказ о себе с того, что предшествовало в его жизни созданию редакции «Детгиза».
В 1918 году он сделал свою первую детскую книжку, затем участвовал в иллюстрировании горьковского сборника для детей под названием «Елка». Это еще было не совсем то, что ему хотелось делать. Книга для детей как художественный предмет, но предмет современный, отвечающий языку нового искусства, – вот что волновало его. У элегантной, декоративно богатой книги мастеров «Мира искусства» еще оставался свой читатель, но содержательно и стилистически она уже принадлежала прошлому. Новое время требовало новых выразительных форм, адекватных искусству социальных перемен.
Трудные времена – война, революция, снова война, уже гражданская. Разруха в стране, и потому негодные полиграфические средства, случайные тексты. Надо было изобретать свои способы создания новой детской книги. Существовала организованная в 1918-м году Верой Михайловной Ермолаевой Артель художников «Сегодня», но Лебедев не примыкал к ней, работал особняком. Он искал технику, более мягкую, чем черно-белая линогравюра, которой пользовались в Артели. Его «Приключения Чуч-ло» и «Слоненок» были первыми опытами на этом пути. Затем, в частном издательстве «Радуга» у неутомимого и энергичного Л. М. Клячко был сделан решительный шаг к современной цветной книжке. Здесь интересы Лебедева сошлись с интересами Маршака. А потом частные издательства ликвидировали, в Госиздате появился детский отдел, который стал «Детгизом».
Принимая революцию, с ее решительным разрывом с прошлым, художники и писатели искали соответствующего, но близкого им по стилистике, способа выражения новых социальных идей. В детской книге они увидели безграничное поле экспериментирования и возможность не только применить свой опыт, но и увлечь совершенно новыми задачами молодежь Академии художеств. К середине тридцатых годов, когда метод соцреализма был объявлен единственным методом советской литературы и искусства, возможности эксперимента свелись на нет.
Слушая рассказ Владимира Васильевича, я еще не знала, что в своих дневниках, изданных уже в 1991 году, Корней Иванович Чуковский замечательно опишет обстановку того времени.
Вот как это было.
В январе 1936 года большая делегация ленинградских писателей и художников направилась в Москву на конференцию по детской литературе в ЦК Комсомола. Лебедев ехал с Корнеем Ивановичем в одном купе и поразил его тем, что даже в поезде делал гимнастику. Он был весел и не ждал ничего плохого. Но на совещании сразу прозвучала резкая критика в адрес художников, их назвали эстетствующими и далекими от жизни.
Николай Андреевич Тырса в ответ на эти обвинения выступил по существу, излагая взгляды ленинградских художников на свои и их задачи: воспитывать в детях эстетически-образованных граждан, подготовленных к восприятию большого искусства. То, что сказал в своем выступлении Лебедев, было настолько профессионально, серьезно и ново по смыслу, что комсомольские деятели и чиновники от искусства просто не поняли художника.
А 1 марта «Правда» разразилась статьей «О художниках-пачкунах». В ней в оскорбительных выражениях говорилось о рисунках Лебедева.
При этом многие известные книжки Лебедева, не попавшие непосредственно под огонь критики, охотно издавали. В Москве в конце тридцатых годов делалось по четыре, шесть и больше переизданий. Но в эти годы он уже мало работал в книге. Безошибочно почувствовав политическую атмосферу, он решил уйти в сторону, занялся живописью и особенно рисунком. А вскоре пришла война.
Мы сидели с Владимиром Васильевичем в затененном уголке квартиры, за окнами шумела улица Горького. Он снова заговорил о своих ранних книжках, созданных вместе с Маршаком. «Вы, наверное, знаете эти книжки», – сказал он. Разумеется, я очень хорошо их знала. «Лампа плакала в углу за дровами на полу: – я холодная, я голодная, высыхает мой фитиль, на стекле густая пыль», – быстро проговорила я. И рассказала, как тайком от своей няни бегала в кладовку – самую заманчивую комнату в нашей петроградской квартире, чтобы пожалеть старую керосиновую лампу. И была счастлива убедиться, что она стоит на полке, вымытая и начищенная до блеска, на случай, если погаснет электричество.
Владимир Васильевич громко и весело рассмеялся.
– К сожалению, – сказал он, – показать Вам совершенно нечего. Все главные работы (это он подчеркнул) в Ленинграде, и неизвестно, когда я туда попаду. Вот кое-что из последних книжек, сделанных в Москве.
Он принес из другой комнаты «Двенадцать месяцев» Маршака. Тонкие цветные акварели показались мне настолько непохожими ни на что, сделанное прежде, что я поначалу растерялась. Артистизм акварельной манеры не подлежал сомнению. Но это был как будто не Лебедев, а кто-то другой. Что-то в деталях смутно напоминало о давней его импрессионистской стилистике разгромленных критикой иллюстраций к академическому изданию «Сказок, песен, загадок» Маршака. Прежние нежные, полупрозрачные формы фигур и предметов приобрели неожиданную плотность и почти фотографическую достоверность.
Я не решалась что-нибудь сказать, и он поспешил заметить, что еще сам не знает, как к своим нынешним книжкам отнестись.
– Московскому издательству, – проговорил он устало, – они нравятся.
Было очевидно, что он совершенно не заинтересован в том, чтобы о нем писали для Франции. С самого начала нашего знакомства он не преминул заметить, что сама идея кажется ему странной: связи с заграницей никогда не поощрялись советской властью, что же это вдруг теперь надумали завоевывать внимание французов?
Мы помолчали. Я собралась уходить. А он на минуту задумался и вдруг сказал:
– Вы вернетесь домой, будете учиться в Академии художеств. Почитайте работы Николая Николаевича Пунина. Он много писал обо мне, о нашей молодости, и Вы поймете, что происходило тогда в искусстве. Вообще, у Пунина стоит поучиться, в Академии он читает несколько курсов, и вы там его услышите.
Наступило время откланяться. Но Владимир Васильевич вдруг оживился и с удовольствием стал рассказывать о своей молодости, о счастливых годах исканий и открытий, о любви к спорту и особенно к лошадям. О том, как он любил наблюдать за этими умными животными и рисовать их… Говорил так, как будто мы с ним были давным-давно знакомы.
Рассказ совершенно преображал его. Нотки безразличия, сомнения, усталости исчезли, передо мной был энергичный, уверенный в себе, много переживший и преодолевший человек. Время молодости, о котором он с такой любовью говорил, продолжало жить в глубинах его сознания.
Позже он прямо скажет такому тонкому исследователю его творчества, как Всеволод Николаевич Петров: для того, чтобы понять его, надо помнить, что он художник двадцатых годов, и его сформировала духовная атмосфера этого времени.
Лебедев вернулся в Ленинград в 1950 году. Его цветные книжки, сделанные в новой виртуозной акварельной манере, печатались в Москве и имели неизменный успех. Однако, пересматривая сегодня свои старые записи, я вспоминаю: ведь он мне сказал, что сам не знает, как относиться к этим своим новым созданиям. Меня и теперь не оставляет ощущение, что Владимир Васильевич переживал тогда тяжелый внутренний кризис. Может быть, объяснения этому ощущению надо искать не в творческих сомнениях, а в атмосфере послевоенного Ленинграда?
В родном городе – он это знал, люди переживали трагические последствия событий 1946 года: партийного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Продолжалась травля творческой интеллигенции.
Николая Николаевича Пунина – третьего, после Лапшина и Тырсы, близкого друга Лебедева – уволили из Ленинградского университета, где он читал курс истории искусств. Его учебник по истории западноевропейского искусства, изданный еще в 1940 году, изъяли из библиотеки как вредную для студентов литературу. Его шельмовали за прозападные антипатриотические взгляды. Доклад Пунина под названием «Импрессионизм и картина» послужил поводом для коллективного доноса в репрессивные органы. В Академии художеств устроили «суд чести», где его ученикам предлагалось публично отказаться от учителя.
В 1948 году Владимира Михайловича Конашевича тоже вынудили уйти из Академии, где он с 1921 года преподавал рисунок и литографию. Его объявили формалистом, каковым он, разумеется, никогда не был. В письме своему старинному другу Петру Евгеньевичу Корнилову, бессменному главе отдела графики Русского музея, Конашевич говорил о том, как жаль ему расставаться со студентами. «…Но Вы знаете, – писал он, – какие сложились обстоятельства в Академии, какова там обстановка и каков дух». Это письмо и воспоминания нескольких писателей, художников и издателей, хорошо знавших Конашевича, Юрий Молок опубликовал вместе с воспоминаниями и перепиской самого художника. Эту замечательную книгу Конашевич, к великому сожалению, уже не увидел.
Но пока шел суровый 1949 год. Пунина арестовали. Это был уже третий арест после двух – в 1921 и 1935 годах. Его отправили в далекий северный лагерь, из которого он уже не вернулся. Ни Лебедев, ни родные Пунина долго ничего не знали о нем.
В 1960-е в Ленинграде Лебедев уединился у себя в квартире, почти никого из чужих не принимал, ни с кем не встречался, кроме самых близких. Он занимался рисованием, которое больше всего любил.
В упомянутой книге Юрия Молока, есть лаконичные воспоминания Лебедева, датированные 1965 годом, где он упоминает о нескольких встречах с Владимиром Михайловичем Конашевичем у себя дома. Он пишет, что они вместе смотрели книги и обменивались мнениями о художниках. В этих поздних встречах двух разительно отличавшихся друг от друга патриархов новой детской книги было что-то очень значительное и трогательное.
Владимир Васильевич скончался через два года после своей записи.
Ретроспективные заметки о людях и книгах
Недавно я готовила к печати статью о всеобщей истории детской художественной книги и ее изучении. Тема интереснейшая и на русском языке еще не озвученная. В том нет ничего удивительного, поскольку мало кто знает, что наука о таком особом предмете вообще существует.
Да она и насчитывает всего-то лет сотни полторы или чуть больше. И рождалась, когда начали создаваться в Европе научные общества и институты, где исследовалась история иллюстрации для детей вместе с историей детской литературы. Немалым подспорьем для создания научных трудов, энциклопедий, словарей, описания коллекций, год за годом становились и выставки детской художественной книги. Так что к шестидесятым годам ХХ века образовался обширный комплекс исторических и теоретических трудов, созданных на разных континентах и языках мира.
Я послала рабочий вариант своей статьи в Цюрих моей коллеге по участию в некоторых организациях и проектах Международного Совета по книгам для детей – IBBY – д-ру Верене Рутшман. Она – один из старейших и уважаемых сотрудников Института имени Иоханны Спири. Я попросила ее указать на неточности, если такие есть, в моем анализе европейского и американского материала, и быстро получила ответ. Со свойственной ей деликатностью д-р Рутшман заметила, что я не упомянула в своей статье одну интересную выставку. И рассказала, что в 1929 году в Городском музее Цюриха состоялась большая экспозиция художественной детской книги, изданной в СССР. Ее привез некто Мексин. При экспозиции был каталог на немецком языке с обложкой Эль Лисицкого и вступительной статьей самого Мексина. Это имя должно быть мне знакомо.
Имя Мексина? Разумеется: ведь я же сама упоминаю в статье его книжку «Иллюстрация в детской книге», выпущенную в Казани в 1925 году, как самый первый труд на русском языке о художественной детской книге. Правда, она написана в соавторстве с известным казанским искусствоведом П. М. Дульским. Еще в 1916 году Дульский выпустил брошюру «Современная иллюстрация в детской книге», на которую ссылаются оба автора, но разыскать ее в Москве мне не довелось. А я писала только о тех трудах, которые читала или хотя бы могла просмотреть.
Почему Мексин работал не один, а с Дульским? Как они оба поделили свои усилия? Ведь я знала о существовании их книги давно, но тогда эти вопросы меня не интересовали, а теперь вдруг показались важными. Сообщение моей коллеги нечаянно открыло кладовые памяти, из которых посыпались воспоминания обо всем, что было связано с фамилией Мексин.
Я училась в аспирантуре, когда шла неистовая и уродливая в своих перегибах и последствиях борьба партийных идеологов с так называемым космополитизмом и преклонением перед прогнившим Западом. Помню, как мы, недавние студенты, смеялись над тем, что даже любимая москвичами французская булка была переименована в «булку городскую». Не стану утомлять читателя перечислением всех невзгод, пережитых достойнейшими представителями советской культуры, обвиненными в космополитизме, они давно описаны. Студенты и аспиранты должны были присутствовать на «судах чести», где шельмовали их любимых профессоров. И от этого всего хотелось уйти, спрятаться, погрузиться с головой в далекое, чистое прошлое. У меня, к счастью, было такое место: отдел редкой книги в «ленинке», как называли в просторечии эту главную библиотеку страны все, кто там просиживал часы и дни.
Еще завершался на углу Моховой и Воздвиженки знаменитый долгострой богатого гранитом и мрамором нового здания библиотеки по проекту В. Щуко и В. Гельфрейха с парадными входами и широкими лестницами. А я входила рано утром в почти незаметную маленькую дверь заднего фасада этого гиганта со стороны Старо-Ваганьковского переулка. Поднималась по узкой служебной лесенке и попадала в тихий приют отдела редких книг.
Первая глава моей будущей диссертации посвящалась старинной русской книге для детей. Материал для меня совершенно неизвестный. Среди источников в основном – бесценные труды великих русских библиографов. Но это море, в котором можно утонуть. Литература, где наряду с изданиями для взрослых, рассматривается детская книга, ничтожно мала. Старинную книжку, да еще детскую, нужно видеть воочию, не в библиографических списках и не в музейной витрине. Ее надо подержать в руках, не однажды перелистать, почувствовать сам стиль и дух, даже особый запах давно прошедших эпох. Разумеется, в отделе редких книг сосредоточены сотни и тысячи образцов интересующих меня книжек. Но как же выбрать самый лучший, самый характерный для времени экземпляр? Без знающего специалиста новичку тут нечего делать.
Отделом редких книг заведовал Дмитрий Николаевич Чаушанский. Без него не состоялось бы мое прикосновение к тайнам богатейшего собрания изданий для детей, в том числе и к истории, связанной с именем Мексина.
Дмитрий Николаевич был человек замечательный. Он принадлежал к той редкой породе глубоких знатоков, которая в наши дни почти перевелась. Специалисты такого класса могут по десятку известных им признаков составить полную атрибуцию старинного издания. Им знакомы типографы и издатели далеких времен, старые словолитни, происхождение политипажей и характер гравюр. Не всякий отличит в старинной книге отпечаток с гравюры на меди от гравюры на стали, укажет время выхода издания в свет по тому, каким типом деревянной гравюры – обрезной или торцовой – репродуцированы иллюстрации, поймет, сам ли автор рисунка перевел его на литографский камень или это сделали хорошие, но рядовые мастера-литографы. Мало кто нынче умеет читать язык символов и эмблем на титульных листах, заставках и концовках очаровательной книги XVIII века, разберется во владельческих и авторских знаках по одной или двум литерам. Им знакомы редкие автографы и другие тонкости, незаметные порой даже коллекционерам. Ясно, что подобные навыки приобретаются годами общения с книгой. И Дмитрий Николаевич накапливал их долго и долго шел к своей должности в отделе редких книг. Я не могу отказать себе в удовольствии коснуться основных вех его биографии, потому, что в них отразились судьбы его современников и коллег да, пожалуй, и целых библиотек.
Начинал он сразу с библиотечного дела в родном Оренбурге, где еще молодым в 1910 году организовал губернскую библиотеку-читальню. Киевский коммерческий институт, который он окончил, заменял тогда многим способным юношам мало доступный столичный университет, и переезд в Москву в начале 1920-х годов не изменил, а только упрочил влечение Дмитрия Николаевича к книжному делу.
После служения в Книжной палате и в библиотеке Института Маркса и Энгельса, где через его руки прошли десятки тысяч самых разнообразных изданий, он в 1936 году был приглашен на работу в отдел редких книг Пашкова дома. В этой сокровищнице московской архитектуры XVIII века помещался когда-то знаменитый Румянцевский музей, закрытый советской властью еще в 1924 году. Теперь здесь находилась особая часть бывшего музея – уникальная старинная библиотека, известная не только в России, но и на Западе своими богатейшими фондами редких изданий. Среди 28 тысяч томов – старопечатные книги, инкунабулы, издания Эльзевиров, редчайшие рукописи.
Отдел редких книг здесь был обескровлен ранними репрессиями начала 1920-х – 30-х годов. Исчезали старые опытные работники дворянского происхождения, сотрудники, арестованные по доносам, люди, совершенно не причастные к политике, но неугодные советскому начальству. В библиотеку продолжали поступать обязательные экземпляры современных книг, условия хранения ухудшались. Ждали переезда в новое здание: помпезную громадину с одиннадцатиярусным хранилищем. И только в предвоенные годы этот, с позволения сказать, переезд начался: несколько сотрудников Пашкова дома вместе с Дмитрием Николаевичем перенесли в отстроенное, наконец, помещение 10 миллионов изданий, в том числе и фонды отдела редких книг, способом ручного конвейера. Когда я пытаюсь представить себе эту картину – цепочку стоящих вдоль улицы библиотекарей (большей частью женщин), которые передают из рук в руки тяжелые пачки с книгами, – в моем воображении возникает что-то из эпохи строительства египетских пирамид.
Наше знакомство состоится не скоро. В начале войны пятидесятипятилетний Дмитрий Николаевич уйдет на фронт и вернется к работе после тяжелого ранения и демобилизации. Потом по государственному поручению привезет из Германии в Библиотеку имени В. И. Ленина ценнейшие трофейные издания. Из Лозанны он доставит в Москву завещанную России уникальную библиотеку писателя, книговеда и просветителя Н. А. Рубакина, которого Москва через год будет с почетом хоронить, как он того хотел. И, наконец, настанет время отдаться целиком любимому отделу.
И вот однажды я, слегка робея, впервые поднялась в отдел редких книг, где мне спокойно и улыбчиво представился Дмитрий Николаевич Чаушанский – моложавый, но уже совершенно седой, хозяин книжных богатств. Носил он простые, такие же, как на фотографиях поэта Заболоцкого, круглые «бухгалтерские» очки и был деликатным на старый джентльменский лад. Я тоже отрекомендовалась, рассказала о работе, к которой еще не знала, как подступиться, а он меня ободрил, и вскоре легко, с явным удовольствием начал учить разбираться в особенностях старинной книги. Наверное, немногие студенты и аспиранты охотно вызывались просиживать свое время в его отделе, копаясь в глубокой старине.
Приятно и увлекательно учиться на классических образцах иллюстрированной книги
XVIII или первой трети XIX века, где высокохудожественное оформление блещет именами лучших рисовальщиков и граверов державинской и пушкинской поры. Александр Брюллов и Галактионов, Оленин и Ческий, Лангер и Сандерс, Ухтомский и Уткин – блестящая плеяда мастеров рисунка и гравюры. Современная этим шедеврам детская книга не выдерживает художественных критериев. Она в большинстве своем изделие вторичное, порою плод усилий малоизвестного типографа, а то и книгопродавца. И только такие образованные, близкие к литературным кругам своего времени издатели, как Александр Филиппович Смирдин и Иван Васильевич Сленин берутся иногда за издание книжки для детей и привлекают к ее иллюстрированию хороших художников. Понемногу другие издатели и типографы стараются следовать за известными образцами иллюстрированной книги для взрослых. В этой массе продукции среднего качества уже можно найти интересные экземпляры. И, наконец, приходит время, когда к детской книге обращаются такие художники, как Капитон Алексеевич Зеленцов, Александр Андреевич Агин и Василий Федорович Тимм.
К статье ГанкинойДмитрий Николаевич терпеливо обучал меня различать стоящие внимания образцы в непритязательных изданиях анонимов, искать то самое жемчужное зерно, которое обязательно попадается среди всякого множества книг, до которых еще не добрались другие. Иногда он отправлял меня на служебном лифте на одиннадцатый ярус к уникальному специалисту по филигранологии – его сверстнику и соратнику Сократу Александровичу Клепикову, который возглавлял отдел эстампов. Он хранил так называемую листовую продукцию: все отпечатанное на бумаге, начиная со старинного лубка до современного плаката. Дмитрий Николаевич считал полезным мое знакомство с эстампом разного времени и качества, потому что стилистика старинной русской лубочной картинки, гравированной или литографированной, часто имеет много общего со стилистикой ранних образцов детской книжонки, сфабрикованной малоизвестным книгопродавцем, почувствовавшим в таком изделии ходкий товар.
Умение пользоваться в своих поисках особым служебным каталогом – это тоже наука, требующая знаний и немалой интуиции. Но обычно я получала самые редкие экземпляры прямо из рук Дмитрия Николаевича. Он, точно священнодействуя, вынимал их для меня из сейфа. Так я увидела редчайший экземпляр миниатюрной листовой азбуки «Подарок детям в память 1812 года», с прекрасно сохранившейся ручной раскраской гравюр на меди тончайшей акварелью. Ее автора, Ивана Теребенева, определил однажды Сократ Александрович Клепиков, который хранил так называемые «летучие листки», что русские художники выпускали в годы нашествия Наполеона.
Удивительное чувство возникает порой рядом с редким изданием былых времен. Представьте себе, например, что испытывает современный человек, когда держит в руках книгу с автографом друга Пушкина, князя Петра Андреевича Вяземского. Или читает обстоятельную авторскую надпись Андрея Тимофеевича Болотова – знаменитого ученого, философа и мемуариста екатерининской эпохи.
Однажды я заметила на титульном листе старой детской книжки миниатюрный нестандартный штамп из двух слитых вместе букв:
М и К (МК). И стоял он не на месте, и производил впечатление чего-то самодельного. Такой оттиск можно получить с обычного канцелярского ластика. Я не стала ломать голову над происхождением непонятного мне знака, а спросила Дмитрия Николаевича, что это за штамп? «Этот штамп означает «Музей книги, – отвечал мой наставник. – Был такой музей книги для детей. Его создавал некий Яков Петрович Мексин. Но до конца осуществить свое замечательное начинание ему не удалось. А часть собранных Мексиным книг попала к нам в отдел».
«А что же потом делал Мексин?» – продолжала интересоваться я. Вопрос был с моей стороны вполне естественным. Я самым деликатным образом пыталась продолжить разговор о нем. Дмитрий Николаевич тоже очень деликатно уходил от темы. И я уже понимала: это значило, как правило, то, что человек, судьбу которого стараются обойти молчанием, попал под тяжелый каток репрессий конца тридцатых.
С того времени прошло больше шестидесяти лет и письмо из Швейцарии снова вернуло меня к прежде не разгаданному вопросу: так что же случилось с Мексиным и его музеем?
Я уже двадцать четыре года живу в Израиле. Здесь спросить некого. Дмитрий Николаевич скончался в 1957 году. Сейчас он не побоялся бы сказать мне правду, хотя при жизни и он полной правды не знал. У меня рядом с компьютером стоит его фотопортрет, подаренный мне старейшим работником отдела редких книг Ольгой Александровной Грачевой. Я сохранила дружбу с ней и познакомилась с новыми молодыми сотрудниками. Можно написать туда. Но сначала попробую доискаться до истины сама.
По старой привычке докомпьютерного времени обращаюсь к своим книжным полкам. Смутно помнится, что Корней Иванович Чуковский в своем дневнике мельком упоминает встречу с Мексиным в московском Госиздате. Открываю первый том «Дневника» издания 1997 года и в именном указателе, составленном Еленой Цезаревной Чуковской, нахожу: Мексин Яков Петрович (1886–1943, погиб в заключении), редактор отдела учебников московского Госиздата. И в тексте, относящемся к 1923-му году: «Поездка в Москву <…>. Напившись в Студии чаю, – в Госиздат. Новое здание – бывш. Магазин Мандля – чистота <…>. Мексин – о «Крокодиле». Оттуда в «Красную новь» <…>.
1923 год – тяжелый для Корнея Ивановича. Он едет в Москву в надежде добыть денег, что-то опубликовать или переиздать… Попытки переиздать «Крокодил» с рисунками Ре-ми – безуспешны. Книгу, вышедшую в 1918 году и все еще находящуюся в обращении, дети знают наизусть, но редакторы испуганы наступлением новых педагогов на сказку. Изгнание «Крокодила» из детского репертуара издательств – дело долгое. И этот любимец детей надолго остается героем устного фольклора. В 1928 году
Н. К. Крупская напишет: «Я думаю, «Крокодил» нашим ребятам давать не надо не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть». Тут приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Но и несколько строчек из дневника Корнея Ивановича, написанные раньше, чем приговор Крупской, прекрасно отражают время, хотя все еще мало говорят о Мексине. Понятно, что редактор Госиздата знает негласную установку и осторожен на службе в солидном государственном издательстве. Посмотрим, что скажет о нем Интернет.
Поисковая система «Яндекс» открывает мне фотопортрет еще вполне молодого человека в пенсне (мода на него еще не прошла) с приятными тонкими чертами лица. В его биографии указано не только время, но и место гибели в дальневосточном захолустье ГУЛАГа: 1943 год, разъезд Пера, Шиманского района. Хабаровский край. Где-то, может быть, недалеко в подобном медвежьем углу погиб другой хорошо известный нам узник поэт Мандельштам.
Яков Петрович Мексин родился в 1886 году в большом украинском городе Елисаветграде, в состоятельной еврейской семье. Его отец занимался лесоторговлей и смог дать сыну хорошее образование. Как многие юноши, жаждущие получить широкий круг знаний, Мексин сумел в 1910 году окончить юридический факультет Московского университета. Несколько лет молодой человек практиковал как адвокат. После октябрьского переворота он расстается со своей профессией и с энтузиазмом вовлекается в преобразования, предпринятые советской властью. Биографы не пишут, сам ли он выбирает для себя стезю просвещения или его привлекают к актуальной тогда просветительской работе государственные организации. Но ясно, что она оказывается ему более чем по душе.
Его увлекает работа с детьми, новые идеи воспитания, область детской литературы. Уже в 1919 году он вместе с писателем Николаем Дмитриевичем Телешовым и литературоведом Алексеем Евгеньевичем Грузинским создает при детском доме, которым руководит, первое советское детское издательство «Наш дом». Понятно, почему он ищет для себя таких компаньонов. Николай Дмитриевич сразу после октябрьского переворота принимает активное участие в работе комиссариата народного просвещения. Он маститый писатель с большим издательским опытом, давно прославленный к тому же своими «Средами», где собирались известные прогрессивные деятели русской литературы, музыки, театра. Он старше Мексина почти на двадцать лет. Мексин еще не родился, когда Телешов выступил со своими первыми литературными опытами и вскоре опубликовал рассказы, среди которых были «Легенды и сказки для детей». Алексей Евгеньевич – председатель «Общества любителей русской словесности», автор популярных учебных пособий для средних школ, преподает в Московском университете. В сотрудничестве с ними способный энтузиаст Мексин приобретает издательские навыки.
Через год Моссовет по неизвестным причинам закрывает «Наш дом», а Мексин в 1921 году трудится в частном издательстве детской литературы под названием «Остров». Работа с Дульским над книгой об иллюстрации детской литературы уже открыла перед Мексиным обширные знакомства с известными художниками. С издательством «Остров» сотрудничают Александр Николаевич и Николай Александрович Бенуа, Мстислав Валерианович Добужинский. Основной библиографический справочник, где содержатся почти все названия книг и издательств, выпускавших детскую литературу, обходит молчанием продукцию «Острова». Видимо, это издательство тоже существует недолго. Доподлинно известно лишь то, что в 1923 году Мексин уже служит в Московском Государственном издательстве и редактирует детскую и учебную литературу.
Оказывается, у него за плечами и первые попытки что-то самому написать для детей. Очевидно, что совместная с Дульским работа над историей детской иллюстрации ему помогает. В их книге вскользь упомянута, правда, без названия издательства, первая детская книжка Мексина – «Русские народные песни», изданная в Москве в 1919 году. Разумеется, он лишь составитель.
Постепенно Мексин все смелее выступает как литератор. Конечно, он еще не большой писатель, скорее – способный и вполне успешный дилетант. С 1923 года по 1930-й на его счету двадцать шесть книжек для дошкольников, и выбор иллюстраторов для них далеко не случаен: это известные мастера графики Владимир Михайлович Конашевич и Константин Васильевич Кузнецов.
Мексин тем временем проявляет и другие способности. Он постоянно одержим какими-то проектами, показывает себя умелым организатором. В 1924 году он задумывает и создает первую выставку детской книги. Здесь, несомненно, сказывается если не влияние, то тесное сотрудничество с Дульским, который к началу 1920-х годов уже известен как книговед, библиофил и коллекционер, основатель музейного дела в Казани, заведующий художественным отделом центрального городского музея. Он имеет и собственную художественную коллекцию, рядом с ним можно многому научиться.
Работа Мексина с выставками продолжается. В 1925 году он участвует вместе с группой музейных работников и учителей в организации в Государственном музее изобразительных искусств оригинальной выставки «Для детей про зверей». Здесь кроме книг демонстрируются небольшие произведения живописи и графики. Известный художник-анималист Ватагин показывает детям, как он работает с глиной, которая в руках скульптора превращается в фигурку зверя. Детям разрешается лепить, делать и раскрашивать фигурки из папье-маше.
Этот опыт еще очень пригодится Мексину в будущем. А пока в 1925 году выходит в свет его совместный с Дульским труд об иллюстрации в детской книге. Это уже серьезная рекомендация Мексина как пишущего специалиста. Тем не менее, его привлекает более живая деятельность: участие в тех государственных организациях, что занимаются воспитанием и образованием детей.
Институт детской литературы, Институт педагогики, Научно-исследовательский институт школ, Институт методов внешкольной работы – эти и другие институты, комиссии и секции при институтах растут, как грибы, то распадаются, то создаются под другими названиями. А Мексин после успешного проведения небольших выставок выбирает для себя Комиссию по музейно-выставочной работе с детьми при Институте методов внешкольной работы.
Здесь он знакомится с еще одной незаурядной личностью, близкой ему по идеям и замыслам – известным архитектором и педагогом Александром Устиновичем Зеленко, который руководит этой комиссией. История его жизни и творчества – увлекательный роман, полный приключений и утопических затей. К таким деятельным людям особенно тянет Мексина.
Александр Устинович – старший современник Якова Петровича, родился в 1871 году в Петербурге. Там в 1894 году окончил Институт гражданских инженеров. Его творческая энергия и необычайная мобильность развиваются стремительно. До 1900 года, он, уже москвич, успевает стать главным архитектором Самары и построить там несколько оригинальных жилых зданий в стиле северного модерна. В 1900 году он в Англии, в Глазго. Работает помощником выдающегося русского архитектора Федора Осиповича Шехтеля на строительстве павильонов Русского отдела Международной промышленной выставки. После Англии ему не сидится на месте, и он совершает кругосветное путешествие. В его маршруте снова Великобритания, за ней Индия, Австралия и, наконец, Соединенные Штаты Америки. Всюду его интересует строительство специфических общественных зданий – клубов, домов и библиотек для детей и юношества. Эти строения расположены в сетлементах (англ. Settlment) – поселениях, где живут люди из интеллигентной среды. Они заботятся об образовании, воспитании и культурном развитии детей из малообеспеченных семей.
Потрясенный увиденным, Зеленко принимает решение посвятить свою жизнь просвещению.
Разумеется, речь не идет о каком-то просвещении вообще, а об использовании американского опыта в российских условиях. Вернувшись в Россию, Зеленко сближается с группой прогрессивных педагогов во главе с С. Т. Шацким. Станислав Теофилович Шацкий – звезда первой величины в российской прогрессивной демократической педагогике начала XX века. Свою практическую работу он начинал среди детей и подростков московских рабочих окраин. Ему хорошо известны сетлементы в Европе: в Англии, Франции, Бельгии и особенно в Швеции. Архитектор Зеленко – именно тот человек, вместе с которым можно попытаться осуществить близкую им обоим идею создания русского сетлемента. В течение года, с 1906-го по 1907-й, на средства московского мецената Н. А. Второва Зеленко строит в окраинном районе Москвы, в Вадковском переулке, оригинальное здание детского клуба общества «Сетлемент» в духе прежних построек архитектора в стиле модерн, с башенками, эркерами, ассиметричным расположением окон, обилием внутренних переходов. Тут совмещаются детский сад, начальная школа и ремесленное училище. В этом педагогическом комплексе ненавязчиво внедряются элементы детского самоуправления. В это время Мексин, еще студент, изучает юридические науки. Ему тоже хорошо знакомы проблемы детей улицы. Тем временем царская полиция закрывает уникальное сооружение как источник вредных социалистических идей и подвергает Зеленко двухмесячному аресту, после которого он снова бежит в Америку. Его возвращение в Москву в 1910 году и на этот раз отмечено строительством современного здания детского сада для бедных детей на Большой Пироговской улице, а через год он строит совместно с архитектором
И. И. Кондаковым Городской Универсальный детский сад.
Как только затихли первые бури октябрьского переворота и Москва с большим трудом и потерями начала входить в тяжелые общественные будни, Зеленко начал искать приложения своих знаний и сил в области просвещения. О строительстве страна еще не помышляет. Но уже в ноябре 1917 года особым декретом учреждается Комиссия по народному просвещению, а в июне 1918 года формируется Наркомпрос. Зеленко так же, как многие деятели культуры, сочувствующие революционным переменам, начинает активно участвовать в его учреждениях и комиссиях.
Госиздат, где работает Мексин, также создан при Наркомпросе. Более тесное общение Зеленко и Мексина состоится после расширившейся практики выставок, которые Мексин организует там, где ему дают помещение – то в Историческом музее, то в клубе Октябрьской революции, где в 1929 году отмечает свое десятилетие Госиздат. Здесь, в отделе Детских издательств, Мексин впервые пробует метод интерактивного показа экспонатов: дети-посетители могут набирать и печатать небольшие тексты, переводить на бумагу рисунки способом стеклографии или литографии. Все это впоследствии будет использовано Мексиным более целенаправленно и широко.
1929 год – особый в жизни Мексина. По заданию Госиздата он организует большую юбилейную выставку детской книги. Очевидно, что именно о ней и о Каталоге к ней с текстом Мексина на немецком языке и обложкой Лисицкого пишет мне коллега Рутшман. Экземпляр каталога имеется также и в Музее прикладного искусства в Вене. Здесь тоже побывал с выставкой Мексин. Но в Интернете ни Швейцария, ни Австрия не упоминаются, а говорится о многих выставках, с которыми Мексин якобы объездил города РСФСР и несколько зарубежных стран, включая такие далекие экзотические, как Япония (по иным, более правдоподобным, сведениям речь идет о выставке японской книги в Москве). Скорее всего, совместить столь многочисленные поездки со службой в Госиздате было невозможно. Вероятнее всего, что в 1930 году Мексина привлек к работе ВОКС (Всероссийское общество культурной связи с заграницей) и он посетил с выставками Ригу, Ревель, Берлин, Гамбург и Прагу.
Как мы увидим в дальнейшем, эти поездки ему припомнят недоброжелатели. А пока после успеха первой большой выставки Мексин выступает с инициативой создать Базу пропаганды детской книги при Музее по народному образованию, идею которой горячо поддерживает Зеленко. Такой музей существовал при Научно-исследовательском институте школ РСФСР. Здесь слово «пропаганда» не несет в себе той наступательной коннотации, какая свойственна политическим лозунгам 1929 года – страшного Года великого перелома. А само создание базы (это слово тоже связано с революционными нововведениями) вполне может быть истолковано как создание постоянной коллекции для ее показа детям. Просветительство в самом чистом смысле слова, осознанная деятельность ради образования и воспитания в детях любви к книге.
Сведения о том, что Мексин к началу 1930-х годов обладал своей собственной коллекцией детской книги, старинной и современной, вполне убедительны. В то время, о котором идет речь, старыми и старинными книгами были полны магазины букинистов, лавки попроще и лавчонки, где почти за бесценок продавались разные издания. В 1920-х – начале 30-х годов многие владельцы богатых библиотек, лишенные советским государством гражданских прав и работы в советских учреждениях, продавали старинные книги попросту ради пропитания. Я не утверждаю, что Мексин создавал свою коллекцию именно таким образом. Но в 1932 году он уже выступил в журнале «Советский музей» со статьей «Из опыта музейно-выставочной работы с детьми». Для такой работы требовалась солидная коллекция. Она, видимо, и составляла основу Базы пропаганды при Музее по народному образованию.Таким образом, экспонаты вошли в этот Музей в качестве самостоятельного отдела. Прошло еще немного времени, Мексин обратился в Наркомпрос с предложением создать уже не отдел, а Музей детской книги.
Предложение одобрено и принято Наркомпросом. Так в 1933–34 году был основан Музей детской книги и рисунка под руководством Я. П. Мексина. Одобрение Наркомпроса придавало новому музею статус государственного учреждения.
Подробный рассказ о необычном музее появляется в годы оттепели, когда о репрессированных деятелях культуры уже можно открыто говорить. Он напечатан в 1966 году в заново созданном журнале «Детская литература», то есть в то время, когда Интернета еще не существовало (он, как известно, стал доступен для поиска информации только в 1991 году). Однако, сегодня тому, кто не имеет прямого доступа к старому журналу, открывается возможность именно в Интернете прочитать большой отрывок из воспоминаний живого свидетеля всех деталей работы музея, созданного Мексиным.
Так и хочется представить себе небольшой московский особнячок, отданный городскими властями Музею детской книги. Это, разумеется, фантазия.
В действительности все было иначе. Музей располагался в трех комнатах площадью всего чуть более 200 квадратных метров, на третьем этаже обычного здания на улице Сретенка, 9. Тут же рядом находились разные учреждения и конторы. Коллекция, собранная Мексиным, насчитывала 60 тысяч детских книг, в том числе редких книг XVIII–XIXвеков. Здесь, вспоминает автор статьи, были и детские журналы, энциклопедии, книжки-игрушки, оригиналы гравюр и рисунков разных времен.
Экспозиция начиналась таким образом, чтобы дети могли себе представить весь процесс создания книги. На маленькой наборной кассе они сами набирали текст, на куске линолеума или на простом срезе картофелины рисовали и вырезали картинку, так, как это делает гравер, наносили краску и печатали «гравюру» на листе бумаги. Дети учились осмысленно работать на стендах, создавать тематические выставки современных и старинных книг, заполнять витрины особенно ценными экспонатами. У музея имелась летняя база в бывшем поместье Шереметьевых в Кусково, где тоже время от времени менялись выставки. Свидетель всей этой разнообразной и по-настоящему творческой работы помнит, что выставки сопровождались фотографиями и артефактами времени, которое соответствовало экспозиции.
Существовали в Кусково разнообразные кружки: литературный, газетно-редакционный, полиграфический и модельно-технический. При музее был Теневой театр. Всем этим руководили специалисты. Никакой «директивы сверху» вести с детьми подобную работу спущено не было. Все, о чем вспоминает автор журнальной статьи, создала во главе с Мексиным группа энтузиастов, любящих детей и книгу. В таком устройстве по-своему отразились идеи Сетлемента (городской клуб, летняя колония, принцип развития детского творчества). Но здесь во главе угла стояла Книга как источник знаний и особое произведение искусства в ряду других видов искусств.
Музей был на подъеме, но Мексин не сидел сложа руки. В стесненных условиях он, кроме экспозиционных стендов, сумел выкроить место для небольшой музейной библиотеки. И одновременно налаживал связи музея с главной библиотекой страны. Там с 1936 года над проектом создания Отдела детской и юношеской литературы трудился вместе с работниками библиотеки его единомышленник архитектор Зеленко. Этот фонтанирующий идеями утопист давно, еще во время своего пребывания в США, изучил опыт создания детских библиотек. Теперь он создавал грандиозный проект детского Дворца книги на территории Библиотеки имени Ленина. Зеленко разработал во всех подробностях устройство и функционирование Дворца. Он спроектировал большое книгохранилище, три читальных зала, комнаты гигиены, с которых начинался вход во дворец. Там дети могли вымыть руки, причесаться, привести в порядок одежду и обувь, прежде чем пройти в читальные залы и взяться за книги. Предусматривались также комнаты для библиотекарей, педагогов, и даже буфет. Библиотека встретила проект с пониманием и одобрением, но, увы, площади для столь замечательного устройства она не имела. Тем не менее, уже шел отбор книг, рассредоточенных по другим небольшим собраниям, в одно хранилище. Для московских специалистов по детской книге 1936 год был периодом спокойной, сосредоточенной научной работы.
Политические тучи сгущались, но гром еще не грянул. Это в Ленинграде как раз в 1936 году после статьи «О художниках-пачкунах» разгромили Детгиз, знаменитую редакцию под руководством Маршака и Лебедева. В этом городе, не слишком любимом Сталиным, нормы по арестам творческой интеллигенции и, в частности, среди писателей, связанных с Детгизом, выполнялись круто. В 1937 году арестован и расстрелян Николай Олейников, поэт и редактор детских журналов «Ёж» и «Чиж». В 1938-м арестован и отправлен в далекую ссылку поэт Николай Заболоцкий.
Но мирный период и для Москвы оказался недолгим. Прежде всего, в октябре 1937 года арестовали самого Народного комиссара просвещения А. С. Бубнова, который поддерживал все прогрессивные начинания деятелей московской детской книги. В августе 1938 года он был приговорен к смертной казни и тотчас расстрелян. Еще раньше, 9 января 1938 года, подвергли аресту Я. П. Мексина и приговорили к восьми годам заключения (он погиб еще до конца срока). В доносе, отправленном в НКВД, верные стражи революции и советской власти писали, что Мексин не кто иной, как «контрреволюционный иностранный агент», «директор-вредитель», а возглавляемый им Музей детской книги – аполитичное учреждение. В такие лихие дни Зеленко со своими утопиями, с поездками по США и многим другим странам, вполне мог держать наготове знаменитый «чемоданчик с вещами». Но он уцелел. Он был верен себе и написал в эти годы книгу о детских парках.
Что же происходило с Музеем детской книги без директора?
Интернет – структура сложная и порой противоречивая. В хоре рассказчиков о погибшем музее и его создателе слышна разноголосица. Один утверждает, что богатейший книжный фонд «был фактически утрачен», другой говорит, что он «подлежал распределению среди разных библиотек». Коллекцию не спасла и бывшая ранее «вывеска» Музея народного образования, при котором Отдел деткой книги, существовал: тот сам теперь перешел под ведомство вновь созданной Академии педагогических наук.
Я читала всю эту неразбериху, утешаясь отчасти тем, чему сама была свидетелем. Часть коллекции Мексина по словам Дмитрия Николаевича Чаушанского попала в Отдел редких книг Библиотеки им. Ленина, и кое-какие издания со штампом МК, я держала в руках. Однако, что это была за часть, и куда подевались остальные из 60 тысяч экземпляров коллекции? В какие «разные библиотеки» они попали? В этих поисках, сидя в Израиле, я бессильна. Что ж, видно пришло время написать в Москву.
Сегодня отдел редких книг Российской Государственной Библиотеки (так теперь называется «Ленинка») сильно изменился. Из главного входа по мраморной лестнице вы попадаете на второй этаж в солидный зал, где в специальных витринах представлены редчайшие образцы книги всех времен. Это Музей книги. Маленький, рассчитанный на несколько рабочих столов читальный зал соседствует с редчайшим Справочно-библиографическим отделом. В рабочих кабинетах, скрытых от читателей, разместился уникальный научно-исследовательский центр. За прошедшие годы сменилось поколение сотрудников, в отдел пришли молодые люди.
Я уже давно состою в виртуальном знакомстве и электронной переписке с кандидатом исторических наук Ириной Леонидовной Карповой. Она специалист по книге XVIII века, заведует сектором формирования и научной обработки фондов научно-исследовательского отдела редких книг. Пишу ей очередное письмо с рассказом о Мексине и его музее и прошу попытаться восстановить всю историю распределения книг из ликвидированного музея. Иными словами – выяснить, куда, кроме отдела, где она работает, попали остальные из 60 тысяч детских книг коллекции, собранной Мексиным. Знаю, что задача непростая, решать ее Ирине Леонидовне придется в свое рабочее время, нарушая план научной работы, утвержденный дирекцией библиотеки. И терпеливо жду. А тем временем пишу в Цюрих коллеге Рутшман, что ее письмо о выставке 1929 года всколыхнуло массу вопросов, связанных с судьбой известного ей Мексина и судьба его оказалась весьма печальной.
Время идет, Ирина Леонидовна увлекает свалившейся на нее поисковой деятельностью другого научного сотрудника, свою коллегу, заведующую сектором научного и методического обеспечения работы с книжными памятниками России – Ирину Александровну Руденко. Вместе они (замечу, на чистом энтузиазме) завершают титанический труд по поиску якобы утраченных книг.
Наконец, получаю долгожданное письмо из Москвы.
Шестьдесят тысяч музейных детских книг не пропали! Сообщение о том, что книжный фонд был утрачен, оказалось преувеличением. Дмитрий Николаевич Чаушанский первым приютил у себя в отделе 3.309 детских изданий, наиболее ценных в художественном отношении. Постепенно две молодые женщины нашли и остальные – все до единой – книги из коллекции Мексина.
В ответ на мою личную просьбу они провели полноценное научное исследование. Подняли все доступные архивы Российской государственной библиотеки и восстановили полную картину того, что происходило с коллекцией. Попутно они нашли массу интересных сведений о связях Мексина и его музея с Библиотекой имени Ленина.
Через год после ареста Мексина Наркомпрос принял решение передать коллекцию в ведение Библиотеки. Но книжный фонд ликвидированного музея оказался слишком велик для того, чтобы сразу занять место в ее основном хранилище. При вынужденном разделении большая его часть попала в обменно-резервное Климентовское книгохранилище, меньшая еще сохраняла название Музея и в этом качестве ее перевели в здание школы № 42 на улице Малые Кочки. Там бывший музей быстро превратился в небольшую выставку. Но, к счастью, на этом история коллекции не закончилась.
За давностью лет я не сразу поняла, чье имя («Климентовское») носил Обменно-резервный фонд Библиотеки, однако, вспомнив Климентовский переулок Москвы, выходящий на Пятницкую улицу, сообразила, что принадлежит оно Храму Папы Климента. Этот прекраснейший образец русской архитектуры эпохи барокко имеет мировую известность. Здесь нам, третьекурсникам искусствоведческого отделения МГУ, профессор Федоров-Давыдов холодной зимой военного 1944 года читал лекцию о своем любимом памятнике русского зодчества. Храм был закрыт, снег плотно лежал на ступенях и на белых изящных наличниках окон. Наверное, мало кто знал, что внутри находится солидное книгохранилище. И мало кто знал, как случилось, что храм уцелел, когда на волне борьбы с религией уничтожались другие московские церкви.
Захожу опять в Интернет. Множество богато иллюстрированных статей предлагают разные толкования его судьбы. Но все они сводятся к тому, что храм был закрыт в 1929 или в начале 1930-х годов. В 1934–35 годах его уже приговорили к уничтожению, священников арестовали. Но храм устоял. За него вступились такие крупные персоны как Климент Ефремович Ворошилов и Игорь Эммануилович Грабарь. Храм решили передать Библиотеке им. Ленина под книжное хранилище. В полностью сохранившиеся интерьеры XVIII века встроили деревянные стеллажи и разместили на них немалое количество книг, так называемый обменно-резервный фонд. В их число попали 55 тысяч 142 книги из коллекции Мексина.
Немало мы читали и слышали о том, во что превращали в тридцатых годах уцелевшие храмы, церкви и монастырские здания. Для книг из библиотеки им. Ленина деревянные стеллажи, построенные в Храме Папы Климента, были почетной ссылкой. Это было надежное укрытие, если не считать отсутствия противопожарной безопасности. С другой стороны, не было ничего оскорбительного для храма в соседстве с книгами, среди которых вполне могли оказаться до коллекции Мексина и труды религиозного содержания.
Так прошло несколько лет. Наступило время, когда советская власть повернулась лицом к православной церкви. Открыли и Храм Папы Климента. Восстановили окраску фасада. В одном из приделов священники начали совершать службы. Угроза пожара стала для книг совершенно реальной.
Начался новый виток в истории Храма и в истории коллекции Мексина. Другие церкви открывались и реставрировались. Возвращалось на свои места церковное имущество. Книжное хранилище стало совершенно не совместимым с действующим храмом, где в 2007 году уже шла полная реставрация. В 2008 году началось освобождение церковного помещения от книг. Им предстояло новое путешествие, которое, к счастью, закончилось благополучно.
Здесь нет смысла занимать читателя всем ходом расследования, которое провели Ирина Леонидовна и Ирина Александровна, множеством цифр, в которых исчислялись их находки. Рассказывать о том, как в глубинах книжных фондов сотрудники библиотеки находили маленький штамп (или штемпель, говоря библиотечным языком) МК, на который прежде не обращали внимания. Ссылаться на архивные документы, которые сама не держала в руках. Все это сделали они подробнейшим образом в большой статье, направленной в журнал Вивлиофика. Таким образом, ревностные служители отдела редких книг Российской государственной библиотеки, совместили свою научную работу с просветительством. История Музея детской книги стала теперь известной всему библиотечному сообществу, книголюбам и библиофилам, коллекционерам и многим людям, интересующимся старинной, да и современной детской книгой.
Коллекция Я. П. Мексина не просто сохранилась. Она попала в хранилища и фонды по определенному назначению. Часть книг, предназначенных для детей старшего возраста, пополнила фонды Отдела детской и юношеской литературы с читальными залами, расположенными во флигеле Пашкова дома, на спуске к Моховой улице. Другая, достаточно большая часть, передана относительно новой, Республиканской библиотеке для детей и юношества, что на Калужской площади. Это вполне достойное место, где часто устраиваются выставки и встречи с художниками. Об остальной части, где работниками РГБ выявлены книги с миниатюрным штемпелем МК, уже говорилось. Возможно, они еще найдут свое место среди детских книг, сохраненных Дмитрием Николаевичем Чаушанским.
Создание сводного каталога уникального книжного собрания – дело будущего. Это такая долгая и кропотливая работа, на какую способны только настоящие рыцари библиотечного дела.
Как бы то ни было, выходит, что не только «рукописи не горят», не горят и книги! Если, конечно, до них, как, увы, бывало в истории, не доберутся варвары.
Осталось сказать несколько слов о судьбе двух других энтузиастов – единомышленников Мексина. Они оставили о себе добрую память.
Станислав Теофилович Шацкий очень рано был привлечен к работе Наркомпроса и руководил Первой опытной станцией по народному образованию. Но, как уже говорилось, это был разносторонний талант. Не только яркий ученый, педагог, но и глубоко образованный музыкант, обладатель прекрасного голоса, концертирующий вокалист. В 1932 году его назначили директором Московской консерватории. Здесь он вместе с профессором Гольденвейзером основал школу для музыкально одаренных детей – будущую ЦМШ, которая существует в этом качестве и по сей день. Скоропостижная смерть в 1934 году прервала дальнейшую просветительскую деятельность этого незаурядного человека. Ему было всего 56 лет.
Лучше всего сохранилось оригинальное здание Александра Устиновича Зеленко. В конце тридцатых годов в нем помещалась Первая опытно-показательная школа Наркомпроса, из которой вышли высокообразованные люди – литераторы, поэты и даже государственные деятели. Это о ней в известном фильме Олега Дормана и книге «Подстрочник» с любовью вспоминает Лилиана Лунгина – переводчик знаменитого «Карлсона» и произведений выдающихся писателей Норвегии, Германии, Франции.
Вадковский переулок перестал быть окраиной Москвы. Она разрослась и вобрала в себя прежде далекие от центра улицы и переулки. Дом №5 прекрасно отреставрирован. Кто-то позаботился о том, чтобы сохранились все характерные детали архитектурного стиля зданий, построенных Александром Устиновичем Зеленко специально для детей. Бывший дом общества «Сетлемент» можно увидеть на интернет-сайте «Прогулки по Москве». Он подробно показан в деталях как архитектурная достопримечательность и находится под надежной охраной: там теперь помещается банк.
Архитектор Зеленко прожил долгую жизнь, не переставая создавать проекты и описания детских музеев, дворцов и парков, не особенно заботясь о том, когда они будут осуществлены. Ведь он был утопистом в самом благородном значении этого слова.