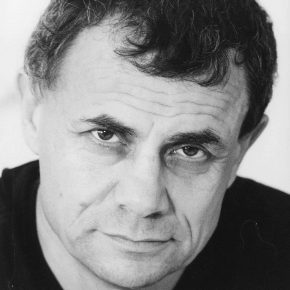Взгляд на еврейское искусство России от Второй мировой войны до наших дней
Судьба еврейского искусства в Советском Союзе исторически неотделима от русского искусства. Формальные качества еврейского изобразительного творчества также были всегда адекватны формам искусства России. Революционный интернационализм первого периода советской власти оказал сильное разрушительное действие в области еврейской национальной духовности, но с другой стороны полностью реабилитировал еврейскую психологически-народную тему. Иудаизм и библейская история подверглись активному уничтожению, но история, переживания, этнография польско-украинских и других местечек стали обычным явлением в еврейской культуре того времени. Лишь значительно позже и эта часть еврейской жизни стала замалчиваться, а после 2-й мировой войны окончательно была поставлена под запрет. Процесс насильственной ассимиляции в значительной степени изменил облик еврейского художника в России. Еврейская тема ушла на второй, скрытый, план. Многие художники стали «марранами» советского искусства, и в разной степени это явление бытует до наших дней.
Подчиненное общим законам развития искусства в России, еврейское искусство после 2-й мировой войны также можно условно разделить на три категории: искусство официально-пропагандистское, искусство либеральное и искусство нонконформистское.
Евреям принадлежит заметное место в официальном, то есть пропагандистском искусстве. Уроженцы местечек и маленьких провинциальных городков, которых революция вывела из жалких рамок гетто, – эта молодежь пришла в крупные города с жаждой учиться и занять положение в обществе. Они стали пропагандистами советской власти, ибо она не только вывела их из ничтожества, но и хорошо платила деньгами и честью за изображения вождей, за картины, изображающие изобилие и счастливый труд, за воспевание непререкаемой правоты коммунистической партии. Художественной базой для создания подобных картин служило русское реалистическое искусство конца 19-го века. Среди русских художников-передвижников и несколько евреев были канонизированы и признаны образцом для подражания; Левитан и Антокольский оказались в числе русских классиков. Технический уровень послевоенного официального искусства был достаточно высок, но произведения были ходульны, фальшивы и хотя претендовали на реализм, по сути дела были очень далеки от жизни советских людей. После смерти Сталина пропагандистское искусство несколько формально модернизировалось, но и по сей день оно остается образцом консерватизма. Что касается национального характера пропагандистского искусства, то оно космополитично, как ничто другое. Художники-пропагандисты не имеют творческой индивидуальности, поэтому не имеет смысла упоминать их имена.
В отличие от официального искусства разложившегося реализма – искусство либеральное уходит корнями в комплекс пластических идей «Мира искусства». Хотя идеология «Мира искусства» долгие годы считалась «буржуазной» и чуждой советскому строю, но тем не менее, отказ от наследия той поры был равносилен полному закрытию советского искусства вообще. Из «Мира искусства» вышли все великие авангардисты в России и, парадокс истории, в «Мир искусства» вернулись советские художники после полного запрета революционного авангарда 20-х годов. Даже такой художник, как Натан Альтман, в свое время переступивший грань кубизма, вынужден был вернуться к пластическому миру дореволюционных лет.
Еврейское искусство, которое мы называем либеральным, конечно, так же вынуждено было заниматься пропагандой. Очень мало художников смогли избежать работы, связанной с партийными интересами правительства, но ,тем не менее, художники-либералы всегда жили искусством и стремились по мере возможности выразить свое состояние средствами пластическими, средствами формальными. В отличие от официальных художников – либералы являются интеллигентами по своему характеру и образу мышления. Старшее поколение либеральных художников, как правило, получило воспитание в те времена, когда Малевич, Татлин, Филонов, Лисицкий, Штеренберг и другие авангардисты стояли во главе художественной жизни России. Несмотря на то, что в последующие годы пришлось отказаться от идейного наследия учителей, учеба все же не прошла бесследно, ибо дала серьезную творческую базу.
Участие еврейских художников весьма значительно во всех областях советского искусства. Так Соломону Юдовину принадлежит крупное место среди ленинградских графиков и граверов. Танхум Каплан создал известную серию литографированных альбомов на темы Шолом-Алейхема и до сего дня активно работает в области графики и керамики на темы еврейской местечковой жизни прошлого. В Москве графики Меир Аксельрод и Мендель Горшман создали много иллюстраций к книгам писателей на идиш. Лев Бродаты оказал заметное влияние на карикатуристов и графиков Москвы. Соломон Телингатер был одним из ведущих книжных дизайнеров. Один из наиболее популярных живописцев в России нашего времени – Александр Тышлер (бывший близким к сюрреализму в 20-е годы) в поэтически-сказочной манере изображает еврейскую народную жизнь. Процент евреев в современном искусстве России непропорционально велик, и даже во главе Союза художников Москвы стоит Степан Иудович Дудник.
Молодое поколение либеральных художников гораздо менее интересно, так как до последнего времени оно находится под влиянием импрессионизма, фовизма и в лучшем случае позволяет себе некоторые слабые элементы кубизма или экспрессионизма.
Наиболее ценной частью еврейского искусства в Советском Союзе является работа художников-нонконформистов. Нонконформизм как явление в художественной жизни возник через несколько лет после смерти Сталина, то есть в период общей политической либерализации. Немалую роль в создании нонконформистского искусства сыграли некоторые художники старшего поколения‚ пережившие годы войн и террора, но основным фактором-катализатором появления нового искусства послужила информация о художественной жизни США и Западной Европы. Выставки западного искусства в Москве открыли молодежи новые миры и новые возможности творчества. К 1960 году нонконформистское искусство в России уже окончательно оформилось и набрало силу. Создалась новая художественная среда‚ которая существовала некоторым образом как общество в обществе. В дальнейшем‚ по мере модернизирования советского искусства, некоторые из новаторов получили возможность работать как театральные декораторы или книжные графики‚ некоторые были даже приняты в Союз Советских художников, но по сути дела эти художники не признаны в полной мере до сих пор. Большинство художников-нонконформистов России – евреи. Их творчество национально не потому, что они изображают еврейские этнографические бороды или эксплуатируют образы еврейской местечковой жизни, ушедшей безвозвратно в прошлое. Эти художники национальны, ибо они наследники еврейского религиозного духа, еврейского способа мышления‚ еврейского темперамента‚ аскетизма и идеализма. Этим людям не надо пытаться стать национальными, они родились таковыми, они евреи не в декларациях, они евреи в своей экзистениии. Рожденные в России, духовные продолжатели российского авангарда 10-х, 20-х годов, работающие рука об руку со своими русскими друзьями и единомышленниками, они остались евреями и жизнь их есть свидетельство жизненности и неугасимости еврейского духа.
Новое еврейское искусство России многообразно и разносторонне. Нередко оно трудно поддается определению в рамках общепринятой терминологии.
Одним из первых абстракционистов 50-х годов был Владимир Слепян, но он тогда же покинул Россию и живет на Западе. Владимир Яковлев (Теельбаум) – создатель серии трагических еврейских портретов, абстракционист и пейзажист, автор рельефных монохромов‚ живописи действия и нежных примитивов. Илья Кабаков – один из самых интеллектуальных художников в Москве. Он создает объекты, мысле-вещи на базе еврейского и русского городского фольклора. Михаил Шварцман – магический символист‚ автор знаково-психологических конструкций. Эрнст Неизвестный – скульптор и гравер, в работах которого сюрреалистическая свобода метафоры насыщена трагической экспрессией. Владимир Янкилевский – создатель мира человекообразной машинерии, полной жестокого секса. Дыхание Финикии и Молоха ощущаются около этих объектов из краски, дерева и металла. Эрик Булатов (ученик одного из самых значительных еврейских художников России – Роберта Фалька‚ работавшего еще и в послевоенные годы) – автор лаконичных геометрических конструкций и городской фольклорист. Дмитрий Лион – книжный иллюстратор и график на листах бумаги величиной со стену, где еврейские народные образы сплетены с бесконечными рукописными строками, которые нельзя прочитать, ибо это только имитация, арабески, похожие на письмо. Вадим Сидур – скульптор и график, соединяющий классический материал глины с прозаическими предметами быта. Оскар Рабин – изобразитель конкретностей русского и еврейского быта в экспрессионистско-сюрреальной форме. Олег Целков – создатель чудовищных образов в колорите, аг-рессивном, как супермузыка. Евгений Бачурин – мрачный пантеист. Эдуард Штейнберг и Владимир Вейсберг – непохожие друг на друга метафизики, соединяющие очарование живой природы с языком символической геометрии. Анатолий Брусиловский – иронический коллажист и график, изобретатель сюрреальных ситуаций с еврейским и латинским шрифтом.
Эти художники не единственные новые художники в России, но по их работам можно судить о разнообразии вклада евреев в современную культурную жизнь СССР. Парадокс заключается в том, что, являясь составной частью искусства русского, они также и часть еврейского народа в диаспоре. В целях точного определения исторического места еврейского искусства в России мы называем это явление еврейско-русским искусством, как и весь исторический период жизни еврейского народа в России.
Эти художники не единственные новые художники в России, но по их работам можно судить о разнообразии вклада евреев в современную культурную жизнь СССР. Парадокс заключается в том, что, являясь составной частью искусства русского, они также и часть еврейского народа в диаспоре. В целях точного определения исторического места еврейского искусства в России мы называем это явление еврейско-русским искусством, как и весь исторический период жизни еврейского народа в России.
8–13 декабря 1973 года. Иерусалим.
О художниках
Владимир Яковлев
Владимир Игоревич Яковлев родился 15 марта 1934 года в Москве. Бывший боксер и фотограф неожиданно становится одним из самых популярных художников Москвы. В 1957 г. Яковлев нарисовал свою первую работу – это была абстрактно-экспрессионистическая акварель, но с собственным колоритом. После этого Яковлев рисовал много с натуры. Под влиянием живописи своего деда, русского импрессиониста Михаила Яковлева, внук написал большое количество импрессионистических абстракций и пейзажей. В 1957 г. Яковлев вживается в изобразительную культуру мира (одной из характерных, черт художника является способность оставаясь в рамках даже самого классического апробированного мышления создавать вещи на уровне открытия. Я имею в виду душевную новизну подхода. Немалую роль в этой новизне играют колористическая самобытность и остранённая логика изображения). Приблизительно с 1960 г. Яковлев начинает писать свои цветы, повлиявшие на развитие многих московских (да и не только московских) художников. Цветок Яковлева – это метафизический образ глубокой душевной трагедии, мучительного внутреннего состояния. Но эти образы просветляют, несут катарсис и взлет – здесь Яковлев говорит языком человека, поднявшегося над своими страданиями, (надо сказать, что личная жизнь Яковлева ужасает своим трагизмом, вот уже несколько лет он скитается по сумасшедшим домам, часто в состоянии тяжелой депрессии. Но судьбе это показалось мало – теперь Яковлев слепнет. Драматический колорит работ Яковлева – это тень его глубокой и таинственной души иудея. В картинах Яковлева всегда присутствует высокий этический смысл при максимальном психическом напряжении. Яковлева невозможно квалифицировать как представителя того или иного художественного направления. Его творчество – яркий пример синтеза изобразительных мышлений. Этот человек получил редкий дар и в своем интимном творчестве спаял разные сферы изобразительного существования. Экспрессионист, символист, импрессионист, примитивист, сюрреалист, реалист – он все и он никто из них. Он – Яковлев. Московский художник середины 20 века.
22 апреля, 5 мая, 11 июня 1966 г. Москва. Текстильщики
Опубликовано: «Витварна праце». Газета №21. 20 окт. 1996 г. Прага.
Игорь Ворошилов
Игорь Васильевич Ворошилов родился в 1939 г. в городе Алапаевске на Урале. В 1954 г. окончил среднюю музыкальную школу по классу баяна. В 1957 г. он приехал в Москву, в 1962 г. окончил факультет киноведения в Институте кинематографии. Талант художника открылся в Ворошилове неожиданно и ярко. Первые его вещи несколько напоминали живопись Ван-Гога экспрессионистической пастозностью мазка и цветовой интенсивностью. Но драматизм Ван-Гога не родствен Ворошилову. Надо сказать, что Ворошилов, в отличие от большинства московских художников, довольно близок к французскому пониманию цвета. Живопись его не драматична, но она, тем не менее, не лишена этического смысла, и это качество позволяет легко отличить Ворошилова как художника московской школы. Ворошилов наиболее традиционный (если можно так сказать) художник в Москве. Понимание пространства, технические приемы, атрибуты и образы Ворошилова весьма далеки от авангарда. Живопись Ворошилова передает тончайшие душевные нюансы: легкую грусть, светлую печаль, состояние влюбленности, тревоги, мимолетности. Поэтические образы девушек, лирические пейзажи – это любимые темы художника. Его душу населяют тончайшие колористические чувствования, и в процессе рисования Ворошилов экстатически отсутствует на земле. Последние работы Ворошилова приобрели более жесткую графическую конструкцию, в них кристаллизуется новое отношение к пространству и движение в сторону послеабстрактного понимания трансформации форм.
8 мая 1966 г. Москва. Текстильщики
Опубликовано: «Витварна праце». Газета №26. 29 дек. 1966 г. Прага.
Эдуард Штейнберг
Эдуард Аркадьевич Штейнберг родился в 1937 г. в Москве. Долгое время жил в Тарусе, традиционной колонии московских художников и литераторов недалеко от Москвы. Штейнберг переменил много профессий: был рыбаком, работал сторожем. Живописью начал заниматься под влиянием, своего отца, художника и поэта. Долгое время Штейнберг с любовью рисовал сельские пейзажи и людей с натуры. Эволюция его как художника проходила почти незаметно для глаза. В 1960 г. он уже писал экспрессивные городские пейзажи. К 1961 г. Штейнберг оставался сдержанным экспрессионистом, техника письма и палитра его в это время приближаются к врубелевским. К 1962 г., отталкиваясь от жизненных ситуаций, Штейнберг создал напряженный цикл картин. Их магический темный колорит вводил зрителя в мир трагического очарования: круговорот похорон, прогулок, празднеств. Эти работы были первым полным раскрытием художника. Но в Штейнберге, страдающем за людей, был скрыт Штейнберг-философ. И в первую очередь это отразилось на колорите. Светлели краски, и на смену сюжетным композициям о людских печалях появились большие прозрачные, белые холсты, где пространство появляется, трансформируется и исчезает, вибрирует и дышит. Это пейзажи с большим небом и натюрморты, легкие, как пейзажи, где предметы весомы не более, чем небо. В этих холстах вечное печальное еврейское тяготение к чистому, моральному, Божескому. Сильно абстрагируя образы, Штейнберг, тем не менее, хорошо зная природу, очень точно передает сущность изображаемого, будь то птица, или камень, или небо, сохраняя таким образом яркие ощущения от прототипа. Надо сказать, что рисованием с натуры художник занимается всю жизнь, очевидно, это мастерская сырья для основной продукции художника. При конструировании формы образов Штейнберг чаще всего не пользуется линией вообще.
8 мая, 12 июня 1966 г.
Опубликовано: «Витварна праце». Газета №21. 20 окт. 1966 г. Прага.
Эдуард Курочкин
Одно из самых мобильных средств изображения – графика – пользуется в Москве не только большой популярностью, но часто погоняет художников настолько, что они или очень мало занимаются живописью, или даже полностью отказываются от нее. Чаще всего эти художники работают в книге, в журнале, но некоторые занимаются только станковой графикой.
Эдуард Курочкин пишет на холсте, но основная его работа – это графические листы цветным карандашом или графитом. Курочкин приехал в Москву из Белоруссии, учился и остался в Москве. В его жилах течет польская, русская, белорусская кровь. Листы Курочкина представляют из себя изобразительную продукцию, сопровождающую его личные жизненные состояния в качестве иллюстраций, комментариев, ассоциаций. Это не зарисовки импрессионистичных впечатлений, но художественное воплощение достаточно стабильных чувственных отношений. В портретах ищется символическая документальность образа, то, что мы называем «улыбкой Джоконды», и пейзаж Курочкина передает атмосферу того или иного события, участником которого явился художник. Каким же обаянием надо наполнить такого рода работы, чтоб они вышли за рамки субъективного мира и влияли на переживания зрителя. Пластическая структура работ Курочкина довольно многопланова, но общий, близкий к традиционному внешний вид листа скрадывает сложную жизнь линий, объема, пространства. Пространственным толкованиям Курочкин уделяет особенно много внимания. Сюрреальная игра объемов и плоскостей, спаянных между собой в единое целое, переливающихся неожиданно в плоскость бумаги и вдруг опять уходящих в условное пространство изображения. Магическая светотень часто используется художником, она вдыхает в образы жизнь и мистический трепет. В листах Курочкина почти всегда отсутствует очаровательная атмосфера камерного интимного мира, наполненная грустью и юмором. Некоторые работы остры и сатиричны, но это бывает гораздо реже. В живописи Курочкину свойственен печальный колорит, и атмосфера холста полна страха и неопределенности.
4, 5, 7 июня 1967 г. Москва. Текстильщики
Опубликовано: «Пламен». Журнал № 11. Ноябрь 1967 г. Прага.
* * *
Эдуард Степанович Курочкин родился 20 апр. 1939 г. в г. Рогачеве в Белоруссии. Юношей он приезжает в Москву, где заканчивает художественный факультет Текстильного института. Курочкин принадлежит к тем художникам, творчество которых представляет из себя один из заключительных этапов развития литературно-изобразительного искусства*. Таким образом, рассказ Курочкина пластически замкнут и самостоятелен, но литературно продлен и эпизодичен. Все творчество художника представляет из себя огромный цикл работ, иллюстрирующий собственное существование автора. Каждый отдельный лист носит характер того или иного состояния души. Парадоксально, но эгоцентризм Курочкина наполнен огромным этическим обаянием, которое в содружестве с рафинированной пластической моделировкой производит волнующее впечатление. Чаще всего Курочкин работает цветным карандашом и графитом. Густая и сложная сеть штриховки, живописная конструкция рисунка, частое использование незакрашенной бумаги как пространства – вот несколько отличительных черт рисунков Курочкина. Серый графит в руках художника приобретает почти колористическое звучание. В живописи Курочкин на манер мастеров готики сопрягает массы, имеющие отдельное локальное цветовое решение. Любимые мотивы художника – городские пейзажи, портреты девушек и жанровые сценки, наполненные фантастикой и мягким юмором.
(*когда повествование ведется уже не наивной перетасовкой персонажей, а гармоническим решением пространства с привлечением всех средств арсенала чистой пластики).
18 мая, 13 июня 1966 г. Москва. Текстильщики
Опубликовано: «Витварна праце». Газета №26. 29 дек. 1986 г. Прага.
Владимир Пятницкий
Еще одним художником, работающим почти исключительно в графике, хотя и написавшим в свое время большое количество масляной живописи, является Владимир Пятницкий. Его работам присуща лаконичная, выразительная линеарная моделировка. Сюжеты Пятницкого представляют из себя рассказы о странных людях в странных обстоятельствах. При этом художник серьезен лишь наполовину. В жизни Пятницкий принадлежит к числу тех людей,благодаря которым, очевидно, появилось понятие «хеппенинга». Абсурдное действие чрезвычайно близко художнику в жизни, и он заставляет своих героев вести себя чрезвычайно странно. Эти маленькие истории появляются как импровизации, они рисуются быстро и непринужденно, но за ними стоит целое мировоззрение. Пятницкий нарисовал несколько смешных мультипликационных фильмов-самоделок и огромное количество прелестных карикатур без текста – это у него получается очень хорошо, как, впрочем, и у многих пессимистов.
4, 5, 7 июня 1967 г. Москва. Текстильщики
Опубликовано: «Пламен». Журнал №11. Ноябрь 1967 г. Прага
Эдуард Зеленин
В сибирском городе Новокузнецке живет Эдуард Зеленин. В свое время он учился и жил в Ленинграде и Москве и тогда сформировался как художник. Примитивистское искусство сыграло далеко не последнюю роль в становлении его художественного мышления. Их было несколько, ленинградских художников, объединенных общей любовью к странному рассказу наивных реалистов. Но мышление Зеленина, конечно, не было наивным, и очень скоро сюрреалистические ситуации стали вплетаться в ткань художественных представлений. Наивные формы предметов гиперболизируются, раздуваются и получают новое качество игрушечных, насмешливых сюрреалий. Открытые цвета живописи агрессивны и откровенно не колористичны. Краска вздымается на холсте и делает предметы почти барельефными. Если бы это было нарисовано в прошлом столетии – это называлось бы вывеской. В дальнейшей работе Зеленин сгущает и материализует пространство до невероятных размеров. Изображение плавает в густой пастозной массе краски уже являющейся скорее спонтанным монохромным рельефом, а не живописью. И здесь, в этой волнообразной стихии, вдруг неожиданно появляется островок изображения – чаще всего натюрморт – тщательно выписанный по контрасту со свободными формами фона. Композиционно этот островок предметности обычно выплывает из-за края холста, подчеркивая нестабильность и обширность ситуации, подчеркивая временность существования – при этом изображение наполнено поэтическим обаянием и нежностью. Этот контраст нарушения и игнорирования плоскости холста, с одной стороны, и традиционная любовь и сотрудничество с плоскостью, с другой стороны, представляет интерес и как стилистическая характерность, свойственная не только Зеленину, но, в том или ином виде, многим российским художникам. Это свободное обращение с материалом приводит еще к одному виду объективизации художественного образа, отличающемуся от метода поп-арта. Надо сказать, что идея создания объекта близка московскому образу мышления, но пути достижения, да и сама цель, резко отличаются от путей и целей, как американских, так и европейских создателей объектов. Еще дальше москвичи отстоят от дадаистов. Как и многие другие, Зеленин также испытал большое влияние Владимира Яковлева.
4, 5, 7 июня 1967 г. Москва. Текстильщики
Опубликовано: «Пламен», журнал №11. Ноябрь 1967. Прага.
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов – живописец, график, поэт, драматург, искусствовед. Он родился и воспитывался в сфере традиционных идей поздних передвижников, учился в консервативном Суриковском институте, но это не помешало ему в итоге сформироваться в фигуру с качествами мышления, противоположными воспитанию. Русская икона и народное творчество раскрепостили художника. Одно время изобразительная философия Смирнова совпала со стилем раннего Кандинского, но это едва ли было влиянием, скорее свидетельством того, что логика воспитания иконой имеет свои точные законы. Писал Смирнов и абстрактные работы, но стремление к максимальному конкретному драматизму заставило его искать, опять-таки, иных путей. Смирнову принадлежит огромная серия работ маслом на исконно русские темы с этнографическими атрибутами, но сюрреальными сюжетами и психологическими ситуациями, в истоке которых лежат евангелические события. Пластическая структура этих работ близка к примитиву, но аналитический взгляд интеллектуала, выросшего на старой иконе, конечно, виден. Если рассуждать схематично, то это традиционный ход многих русских художников начала 20 века. Мнимый инфантилизм не является попыткой подмены, он откровенно мнимый, он подчеркивает сущность и создает сюжет. За этим стоит нервный и в большой степени спонтанный интеллект. Смирнову очень близок сумасшедший, мучительный темп прикосновения к плоскости холста или бумаги. Иной раз неожиданно (на первый взгляд) смирновские формы начинают неудержимо распадаться и делиться, и тут же на бумаге эти распады сопровождаются интимными документально-психологическими стихами. Это таинственный декаданс вторгается в насмешливую среду изобразительных образов, странные каприччио – зеркало переживаний городского интеллигента, ведущего свой род от лирического героя Александра Блока. Так соединяется культура рухнувшего дворянского государства со здоровой пластической жизнью современности.
4, 5, 7 июня 1967 г. Москва. Текстильщики
Опубликовано: «Пламен». Журнал № 11. Ноябрь 1967 г. Прага.
Эрнст Неизвестный
Эрнст Иосифович Неизвестный родился в 1925 году. Свою странную фамилию он получил в наследство от прадеда-кантониста. Эрнст воевал во 2-ю мировую войну; парашютистом-десантником прыгал в тыл немцев, был тяжело ранен, находился на грани смерти и выжил, чтобы через четверть столетия стать одним из самых мощных еврейских скульпторов.
В Москве нет равнодушных к его творчеству. Его ненавидят, ему завидуют, ему подражают, его любят, им восхищаются. В своей вечной кожаной куртке, надетой на голое тело, он двигается в загроможденной мастерской и отдает распоряжения работникам, и сам он похож на мастерового или на индустриального рабочего. Он очень нервен, впечатлителен и тонок. Он не так прост, как это может иной раз кому-то показаться. О Неизвестном написано много, и западные критики нашли в его творчестве всё, в том числе и католицизм, но никто еще не сказал главного – Неизвестный в первую очередь еврейский художник; строй его мышления – библейский, строй его переживаний – иудейски-религиозный. Неизвестный ощущает этот мир как моральную конструкцию, и своими работами моделирует страстно-моральное отношение к науке, обществу, человеку. Постоянно-конкретная предметность его работ вытекает из функциональной целеустремленности. Эрнст Неизвестный работает среди людей и для людей. Это особенно симптоматично для нового еврейского художественного авангарда сейчас, когда анархо-индивидуалистическое искусство, ведущее свою родословную от эллинизма и Ренессанса через импрессионизм и абстракцию, находится в состоянии броуновского движения.
Но Неизвестный, хотя он по своим формальным качествам и происходит из эпохи Микеланджело, не капитулировал и настойчиво продолжает соединять пластическую идеологию с идеологией морального характера. Этот своего рода мессианизм был очень типичен для российского авангарда 20-х годов 20-го века, и он отличает современных еврейских авангардистов в Москве от их западных товарищей. Неизвестный не ходит в синагогу, но смысл его творчества абсолютно религиозен. Это один из парадоксальных аспектов современного еврейского духа. Интересно проследить, какими метафорами Эрнст Неизвестный комментирует Библию. Ретроспекция – экзистенция – катарсис. Как синтетический треугольник, где катарсис является венцом постройки. Эпически – экзистенциональным звеном является у Неизвестного тема «Гигантомахия». Тема очищения найдена в Достоевском. Тема чистой экзистенции – Распятие. Распятия из воска, глины, металла являются сейчас основной продукцией скульптора. Это удивительные кресты, где нет христианства. Это Самсон Бар-Кохба, Варшавское гетто. Это человечество, поднятое на дыбу. Это перефразировка библейского «И будут страдать в вас все племена и народы земные». Неизвестный сейчас – приготовился к очередному грандиозному синтетическому прыжку – куда?
В Москве нет равнодушных к его творчеству. Его ненавидят, ему завидуют, ему подражают, его любят, им восхищаются. В своей вечной кожаной куртке, надетой на голое тело, он двигается в загроможденной мастерской и отдает распоряжения работникам, и сам он похож на мастерового или на индустриального рабочего. Он очень нервен, впечатлителен и тонок. Он не так прост, как это может иной раз кому-то показаться. О Неизвестном написано много, и западные критики нашли в его творчестве всё, в том числе и католицизм, но никто еще не сказал главного – Неизвестный в первую очередь еврейский художник; строй его мышления – библейский, строй его переживаний – иудейски-религиозный. Неизвестный ощущает этот мир как моральную конструкцию, и своими работами моделирует страстно-моральное отношение к науке, обществу, человеку. Постоянно-конкретная предметность его работ вытекает из функциональной целеустремленности. Эрнст Неизвестный работает среди людей и для людей. Это особенно симптоматично для нового еврейского художественного авангарда сейчас, когда анархо-индивидуалистическое искусство, ведущее свою родословную от эллинизма и Ренессанса через импрессионизм и абстракцию, находится в состоянии броуновского движения.
Но Неизвестный, хотя он по своим формальным качествам и происходит из эпохи Микеланджело, не капитулировал и настойчиво продолжает соединять пластическую идеологию с идеологией морального характера. Этот своего рода мессианизм был очень типичен для российского авангарда 20-х годов 20-го века, и он отличает современных еврейских авангардистов в Москве от их западных товарищей. Неизвестный не ходит в синагогу, но смысл его творчества абсолютно религиозен. Это один из парадоксальных аспектов современного еврейского духа. Интересно проследить, какими метафорами Эрнст Неизвестный комментирует Библию. Ретроспекция – экзистенция – катарсис. Как синтетический треугольник, где катарсис является венцом постройки. Эпически – экзистенциональным звеном является у Неизвестного тема «Гигантомахия». Тема очищения найдена в Достоевском. Тема чистой экзистенции – Распятие. Распятия из воска, глины, металла являются сейчас основной продукцией скульптора. Это удивительные кресты, где нет христианства. Это Самсон Бар-Кохба, Варшавское гетто. Это человечество, поднятое на дыбу. Это перефразировка библейского «И будут страдать в вас все племена и народы земные». Неизвестный сейчас – приготовился к очередному грандиозному синтетическому прыжку – куда?
28 февраля 1972 г. Мевасерет-Цион.
Владимир Вейсберг
В Израильском музее в Иерусалиме открылась выставка картин Владимира Вейсберга.
За последнее время это третье выступление московских художников-нонконформистов в крупных израильских музеях (первые две выставки – Гробман и Неизвестный). Постепенно израильская художественная среда начинает понимать, что Россия это не только скучный и бездушный консерватизм официального толка, но и страна великого авангарда 20-х годов, страна супрематизма и футуристов, страна, в которой и сейчас существует живое творчество и живая художественная мысль. Русская алия привезёт с собой ещё немало сюрпризов, и более того, можно предположить, что мы стоим на пороге новой «русской» эры в израильском искусстве. Это выходцы из России уже создали в прошлом нашу национальную живопись, и, кто знает, может быть и нынешним «русским» суждено будет влить новую кровь, мысль и талант в искусство Израиля.
Владимир Вейсберг родился в 1924 году в семье известного еврейского фрейдиста, погибшего в бурные человеконенавистнические 30-е годы. Художник живёт и работает в Москве. Вейсберг – ветеран российского художественного подвижничества. Ещё в годы 2-й Мировой войны ху-дожник отдавал драгоценный хлеб за масляные краски. К 1960 году Вейсберг был уже одним из наиболее признанных и уважаемых московских нонконформистов. Вейсберг – один из пионеров неофициального искусства послесталинского периода. Около 20 лет назад началось паломничество людей в квартиру художника (ибо выставки его были невозможны), и многих Вейсберг очаровал своим миром и хотя бы на короткое время вывел из состояния ежедневного зла и суеты. Надо помнить, что московские художники-нонконформисты были первыми, кто преподал советскому человеку нормы подлинной духовной жизни. В мастерских непризнанных властью новаторов впервые начался процесс ретрансформации «гомо-советикуса» в «гомо-сапиенса». Не место сейчас анализировать, насколько глубок был этот процесс и какие он имел последствия, но одно следует заметить – от поисков духовного освобождения первых лет послесталинской России до еврейского национального подъёма и движения в Израиль – прямой, исторически закономерный путь. Как это ни покажется многим парадоксальным, но влияние неофициальных, «подпольных», художников на развитие общества в современной нам России намного превосходило и превосходит влияние малочисленных и полностью оторванных от советского народа политических бунтарей, ратующих за реформы. Историческим фактом является также то, что русское демократическое движение зародилось в той свободомыслящей среде, которую создали художники-нонконформисты. Московские художники-нонконформисты – первые и наиболее эффективные воспитатели, заронившие в души многих людей России зёрна гуманизма и духовного поиска. Владимир Вейсберг – один из этих воспитателей.
Израильский зритель увидел серию полотен Вейсберга – перламутровых, белых, туманных .Мир абсолютной гармонии, не потревоженный, вибрирующий, существующий. Существующий, ибо настоящее время; минута, секунда, мгновение на наших глазах падают в вечность в картинах Вейсберга. Движение отсутствует в этих картинах, точнее сказать – оно присутствует само в себе, ибо мы находимся в невероятном по своей метафизичности месте, на стыке воспоминания и представления. Вейсберг останавливает мгновение, препарирует его, расширяет, делает вместительным, и в этом колдовство его метода. Вейсберг обволакивает зрителя, отрешает его, погружает в состояние медитации. Белое, белое, белое на белом. Полное отсутствие сюжета, мир объективных композиций, вселенная – как две раскрытые перламутрово-молочные чашечки речной раковины. Художник не пользуется цветом как таковым, его инструмент – валёры. Но сколько воли в этом мире нежности и созерцания. Симметрия, излюбленная художником, – ключ к двери, за которой железная дисциплина, анализ, точность.
«Всё суета сует и всяческая суета!» – звучит нам голос. И мир картин Вейсберга – это мир энергии, приведённый мастером к покою.
29, 30 января 1975 г. Иерусалим.
Алексей Попов-Фрин
Алексей Георгиевич Попов родился 15 марта 1903 г. в селе Фряново Московской губернии. По имени своего родного села он позже взял артистический псевдоним – Фрин. Всю жизнь Алексей Попов работал в музеях и реставрационных мастерских. Взгляд его как художника и человека всегда был обращен в сферы искусства и любви. Удивительна и характерна для русского человека судьба Попова – выходец из простой деревенской семьи становится рафинированным эстетом, полностью погруженным в мир прекрасного. Личная жизнь Попова окружена старинными гравюрами, картинами‚ книгами. Даже в суровые годы войны, находясь в армии‚ Попов был погружен в свои далекие от действительности изысканные художественные мечтания. Мир картин Попова – нежные девушки и юноши‚ любовь в саду‚ цветы и олени. Любимый материал его – акварель или тушь на бумаге небольшого размера. Работа Попова духовно и стилистически родственна русскому эстетическому символизму начала века. Его картины наполняют душу грустным и светлым очарованием одиночества.
Живет и работает художник в Москве.
25 августа 1973 г. Иерусалим.
Танхум Каплан
Каплан Танхум (Анатолий Львович) – род. 28.ХII. 1902 г. в г. Рогачеве Могилевской губ. Белоруссия, – еврейско-русский художник. В юности рисовал вывески работал учителем рисования. С 1922 по 1927 гг. учился во ВХУТЕМАСе в Ленинграде. Работал художником-оформителем. Рисовал с натуры. В конце 1930-х гг. сделал первые литографии под руководством Г. С. Верейского. В 1940 г. совершил путешествие в Бессарабию и Западную Украину. В годы 2-й мировой войны жил на Северном Урале. В 1944 г. вернулся и работал в Ленинграде.
В 1950-1951 гг. Каплан – главный художник Завода художественного стекла в Ленинграде. В это же время Каплан работает над вазами и другими предметами из стекла. В конце 1953 г. начал работать по мотивам сочинений Шолом-Алейхема. В 1953–63 гг. Каплан создал альбом цветных литографий к «Заколдованному портному». В 1957-61 гг. создан альбом литографий «Тевье-молочник». В 1962 г. – цветные литографии «Песнь песней». В 1963-67 гг. создан альбом литографий к «Стемпеню».
В 1966-67 гг. Каплан закончил альбомы литографий к «Фишке-хромому» М. Мейхер-Сфорима и к рассказам И.-Л. Переца. В 1967–68 гг. Каплан начал работать в керамике на еврейские народные темы. Каплан – участник многих международных выставок. Живет в Ленинграде. Танхум Каплан – типичный художник второго послеавангардного потока в искусстве России. Он учился во ВХУТЕМАСе во времена таких «левых» профессоров, как В. Татлин, М. Матюшин, И. Пуни, но основные годы сознательного творчества художника приходятся на эпоху реакции и конформизма. Как и многие художники того времени, Каплан должен был спрятать свой талант в более камерные области искусства, в частности, в графику. Каплан смог творчески выжить и не случайно очередной расцвет его творчества связан со временем десталинизации.
Каплан одинаково далек и от современного нового искусства, и от казенного соцреализма. Работы Каллана – это некая особая область национально – пластического существования. Высокое мастерство и вдохновенность художника сближают его с людьми, мыслящими авангардно. В области черно-белой графики Каплан является большим мастером – тонкое чувство пятна, тона, линии характерно для него как представителя выдающийся школы ленинградских графиков. Цветные работы Каплана непосредственно связаны с еврейской народной и книжной традицией, с пластикой еврейской народной скульптуры, которая катастрофически гибнет сейчас в Западной Украине. Логичным развитием художника было обращение к материалу керамики, но керамика Каплана больше связана с его нервной черно-белой манерой, нежели с народными пластическими мотивами. Каплан – это один из наиболее характерных представителей еврейской изобразительной культуры в России послефутуристического периода.
В 1950-1951 гг. Каплан – главный художник Завода художественного стекла в Ленинграде. В это же время Каплан работает над вазами и другими предметами из стекла. В конце 1953 г. начал работать по мотивам сочинений Шолом-Алейхема. В 1953–63 гг. Каплан создал альбом цветных литографий к «Заколдованному портному». В 1957-61 гг. создан альбом литографий «Тевье-молочник». В 1962 г. – цветные литографии «Песнь песней». В 1963-67 гг. создан альбом литографий к «Стемпеню».
В 1966-67 гг. Каплан закончил альбомы литографий к «Фишке-хромому» М. Мейхер-Сфорима и к рассказам И.-Л. Переца. В 1967–68 гг. Каплан начал работать в керамике на еврейские народные темы. Каплан – участник многих международных выставок. Живет в Ленинграде. Танхум Каплан – типичный художник второго послеавангардного потока в искусстве России. Он учился во ВХУТЕМАСе во времена таких «левых» профессоров, как В. Татлин, М. Матюшин, И. Пуни, но основные годы сознательного творчества художника приходятся на эпоху реакции и конформизма. Как и многие художники того времени, Каплан должен был спрятать свой талант в более камерные области искусства, в частности, в графику. Каплан смог творчески выжить и не случайно очередной расцвет его творчества связан со временем десталинизации.
Каплан одинаково далек и от современного нового искусства, и от казенного соцреализма. Работы Каллана – это некая особая область национально – пластического существования. Высокое мастерство и вдохновенность художника сближают его с людьми, мыслящими авангардно. В области черно-белой графики Каплан является большим мастером – тонкое чувство пятна, тона, линии характерно для него как представителя выдающийся школы ленинградских графиков. Цветные работы Каплана непосредственно связаны с еврейской народной и книжной традицией, с пластикой еврейской народной скульптуры, которая катастрофически гибнет сейчас в Западной Украине. Логичным развитием художника было обращение к материалу керамики, но керамика Каплана больше связана с его нервной черно-белой манерой, нежели с народными пластическими мотивами. Каплан – это один из наиболее характерных представителей еврейской изобразительной культуры в России послефутуристического периода.
19 октября 1972 г. Иерусалим.
Борис Шейнес
Борис Исаакович Шейнес родился в 1935 г. в семье инженера. Первая творческая работа Шейнеса – суперобложки для книг его дяди. Это труд остался, конечно, неизвестным зрителю, но явился первым трамплином в развитии художника. В 1960 г. Шейнес выставил в Доме художника в Ермолаевском пер. свои иллюстрации к Бальзаку. Несмотря на некоторую реминисцентность, эти работы отличались большой степенью душевной глубины и пластической элегантностью. Виртуозное владение черным и белым, чувство свободы пятна и легкости линии – вот характерные особенности этих листов. Прошло несколько лет мысли и эксперимента. Многое появлялось в качества функциональной графики, и за каждой новой книжной работой можно было уловить перемены, происходящие в творческой жизни художника. Мы наблюдали его мужество, позволившее художнику отвернуться от ранее используемых форм, принесших ему успех, и вновь ввергнуть себя в пучину поисков. Стихия свободной живописной организации графического листа сменилась конструктивными построениями, насыщенными умозрительной лирикой городского созерцателя. В связи с этим возник интерес у художника к посткубистическим ретроспекциям и выводам. Это тенденция поэтического анализа, когда конструктивно-осмысленное пространство насыщено очарованием нежных психологических ситуаций. Что особенно ценно – это достигается не сюжетом, но нервностью и теплотой пластического подхода. Пространство одушевлено и многолико, оно обманчиво, и мгновение останавливается не на геометрической формуле, но на глубокой внутренней экспрессии образа. Математика присутствует, но не диктует. Даже самые отвлеченные конструкции пронизаны энергией далеко не рационального свойства. Композиции ведут родословную своей стройности от пристального взгляда на конструктивные свойства природы. Нелишне подчеркнуть – в наше время процветания различных эффектных техник изобразительства Шейнес работает простым графитом, и приятно видеть, как богато, сочно, ювелирно ложится у него этот камень на бумагу. Есть одна сторона у художника, которая, можно предположить, послужит в дальнейшем для окончательной трансформации и растворения посткубистических симпатий. Речь идет о мягкой, но интенсивной спонтанности, насыщенной драматизмом и лирикой. Способность такого характера, как правило, является предпосылкой для развития стиля, близкого к созданию символико-метафизической системы. Язык магических новообразований не только не чужд Шейнесу, но является одной из характерных сторон его творчества. Это есть умение осмыслить мир путем создания параллельного лапидарного языка, замкнутого и многопланового одновременно. Художник, вставший на этот путь, окончательно освобождается от высоких, но индивидуалистических тенденций, господствовавших от Ренессанса до конца 19 века.
24, 26 января 1968 г. Москва, Текстильщики.